Научное исследование, его принципы и структура
Содержание. Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Основные направления методологии научного исследования. Этапы научного исследования. Принципы научного исследования. Типы научного исследования. Структура научной теории. Постановка проблемы и выдвижение гипотезы, виды гипотез. Классификация исследовательских методов.
Основные понятия. Наука, эмпирическое знание, теоретическое знание, верификация, фальсификация, метод, исследование, факт, предмет, объект, теория, моделирование, измерение, идиографический подход, номотетическии подход.
Сегодня психологам уже не нужно убеждать специалистов из других областей знания, что существует такая наука, как психология. Хотя после чтения некоторых психологических книг или статей у естественников или математиков могут возникнуть обоснованные сомнения на этот счет. Если психология — наука, то на психологический метод распространяются все требования к научному методу.
Наука — это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое знание о действительности, отвечающее критерию истинности. Практичность, полезность, эффективность научного знания считаются производными от его истинности. Ученый, а точнее, научный работник, — это профессионал, который строит своею деятельность, руководствуясь критерием «истинность—ложность».
Кроме того, термин «наука» относят ко всей совокупности знаний, полученных на сегодняшний день научным методом.
Результатом научной деятельности может быть описание реальности, объяснение предсказания процессов и явлений, которые выражаются в виде текста, структурной схемы, графической зависимости, формулы и т. д. Идеалом научного поиска считается открытие законов — теоретическое объяснение действительности.
Однако научное познание не исчерпывается теориями. Все виды научных результатов можно условно упорядочить на шкале «эмпирическое — теоретическое знание»: единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, закономерность, закон, теория.
Наука как система знании и как результат человеческой деятельности характеризуется полнотой, достоверностью, систематичностью. Наука как человеческая деятельность прежде всего характеризуется методом. Метод научного исследования рационален. Человек, претендующий на членство в научном сообществе, должен не только разделять ценности этой сферы человеческой деятельности, но и применять научный метод как единственно допустимый. Совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности — такое определение понятия «метод» можно чаще всего встретить в литературе. Следует лишь добавить, что эта система приемов и операций должна быть признана научным сообществом в качестве обязательной нормы, регулирующей поведение исследования.
Что такое норма исследования? На этот вопрос можно ответить, обратившись к понятию «нормальная наука», которое было предложено Т. Куном. Он выделяет два различных состояния науки, революционную фазу и фазу «нормальной науки»: «Нормальная наука» означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений… В наши дни такие достижения излагаются, хотя и редко, в их первоначальной форме учебниками — элементарного или повышенного типа». С понятием «нормальная наука» связано понятие «парадигма». Парадигма — это общепризнанный эталон, пример научного исследования, включающий закон, теорию, их практическое применение, метод, оборудование и пр. Это — правила и стандарты научной деятельности, принятые в научном сообществе на сегодняшний день, до очередной научной революции, которая ломает старую парадигму, заменяя ее новой.
Существование парадигмы является признаком зрелости науки или отдельной научной дисциплины. В научной психологии проблема становления парадигмы отражена в работах В. Вундта и его научной школы. Взяв за образец естественнонаучный эксперимент, психологи конца XIX — начала XX в. перенесли основные требования к экспериментальному методу на почву психологии. И до сих пор, какие бы возражения ни выдвигались критиками против правомерности использования лабораторного эксперимента в психологических исследованиях, научные работники продолжают ориентироваться на принципы организации естественнонаучного исследования. На основе этих принципов проводятся диссертационные исследования, пишутся научные отчеты, статьи и монографии.

Огромный вклад в развитие научной методологии середины и конца XX в. внесли К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд, П. Холтон и ряд других выдающихся философов и ученых. Они основывались на анализе развития нужного знания и реальной деятельности исследователей. Особое влияние на их взгляды оказала революция в естествознании, затронувшая математику, физику, химию, биологию, психологию и другие фундаментальные науки. Изменился сам подход к науке и жизни в науке. В XIXв. ученый, обнаружив факт, закономерность, создав теорию, мог в течение всей жизни защищать свои взгляды от критических нападок и проповедовать их ex cathedra — наука не очень-то отличалась от философии, — надеясь на истинность и неопровержимость своих убеждений. Отсюда — принцип верифицируемости, фактической подтверждаемости теории, выдвинутый О. Контом. В XX в. на протяжении жизни одного поколения научные взгляды на реальность порой претерпевали кардинальные изменения. Старые теории опровергались наблюдением и экспериментом. Ученый в течение активной научной жизни мог для объяснения экспериментальных данных, полученных коллегами, выдвигать последовательно ряд теорий, опровергающих одна другую. Человек перестал отождествлять себя со своей идеей, «паранойяльная» установка оказалась неэффективной и была отвергнута. Теория уже не считалась сверхценностью и превратилась во временный инструмент, который, как резец или фрезу, можно затачивать, но в конце концов он подлежит замене.
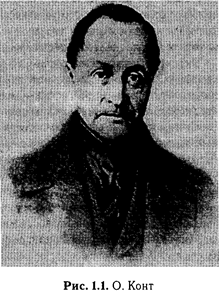
Итак, любая теория есть временное сооружение и может быть разрушена. Отсюда — критерий научности знания: научным признается такое знание, которое может быть опровергнуто (признано ложным) в процессе эмпирической проверки. Знание, для опровержения которого нельзя придумать соответствующую процедуру, не может быть научным.
В логике следствие истинного утверждения может быть только истинным, а среди следствий ложного утверждения встречаются как истинные, так и ложные. Каждая теория — всего лишь предположение и может быть опровергнута экспериментом. К. Поппер сформулировал правило: «Мы не знаем — мы можем только предполагать».
С позиций критического рационализма (так характеризовали свое мировоззрение Поппер и его последователи) эксперимент — это метод опровержения правдоподобных гипотез. Из логики критического рационализма исходят современная теория статистической проверки гипотез и планирование эксперимента.
Принцип потенциальной опровержимости научной теории Поппер назвал принципом фальсифицируемости.
Нормативный процесс научного исследования строится следующим образом:
1. Выдвижение гипотезы (гипотез).
2. Планирование исследования.
3. Проведение исследования.
4. Интерпретация данных.
5. Опровержение или неопровержение гипотезы (гипотез).
6. В случае опровержения старой — формулирование новой гипотезы (гипотез).
О чем говорит эта схема? В первую очередь о том, что в структуре научного исследования содержание научного знания является величиной переменной, а метод представляет собой константу.
Ученых сплачивает в научное сообщество не следование какой-то идее, верованию, теории, а приверженность единому методу получения нового знания.
Но метод, вытекающий из модели науки, предложенной Поппером, как раз нового знания дать не может; он лишь способен опровергнуть старое знание или оставить вопрос открытым для дальнейшей критики. Такой подход напоминает отсрочку приговора.
Новое знание рождается в форме научного предположения — гипотезы, через призму которой ведется интерпретация данных. А выдвижение гипотезы, построение модели реальности и теории — это процессы интуитивные и творческие. Они находятся за пределами рассмотрения теории научного эксперимента.
Эксперимент, рассматриваемый с этих позиций, является лишь методом отбора, контроля, «выбраковки» недостоверных предположений. Новое знание добывается иными путями: эмпирическое — наблюдением, а теоретическое — путем рациональной обработки интуитивных догадок.
Помимо метода в конструкции научного исследования присутствует еще одна непременная составляющая, а именно — проблема, «рамка», в которую вписаны и гипотеза, и интерпретация, и сам метод.
Поппер неоднократно отмечал, что в ходе развития науки изменяются и гипотезы, и теории. С изменением парадигмы пересматривается метод, появляются новые проблемы, но остаются и старые, углубляясь, дифференцируясь с каждым циклом исследования.
Многие ученые склонны классифицировать не «науки» (ибо мало кто знает, что это такое), а проблемы.
Критический рационализм ничего не говорит о том, откуда берется новое знание, но показывает, как умирает старое. В чем-то он схож с синтетической теорией эволюции, которая до сих пор не может объяснить возникновение новых видов, но хорошо прогнозирует процесс их стабилизации и исчезновения.
Как человек, идея рождается необязательно и случайно, но умирает неизбежно и закономерно.
Итак, парадигма современного естествознания стала основой психологического метода.
Исследование
От любой другой сферы человеческой деятельности наука отличается своими целями, средствами, мотивами и условиями, в которых научная работа протекает. Цель науки — постижение истины, а способ постижения истины — научное исследование.
Исследование, в отличие от стихийных форм познания окружающего мира, основано на норме деятельности — научном методе. Его осуществление предполагает осознание и фиксацию цели исследования, средств исследования (методологию, подходы, методы, методики), ориентацию исследования на воспроизводимость результата.
Различают эмпирическое и теоретическое исследования, хотя разграничение это условно. Как правило, большинство исследований имеет теоретико-эмпирический характер. Любое исследование осуществляется не изолированно, а в рамках целостной научной программы или в целях развития научного направления. Изучение особенностей нарциссической личности Э. Фромм проводил в рамках научной программы исследования причин «злокачественной агрессии». Программа К. Левина послужила основой для постановки исследований уровня притязаний, мотивации достижений, квазипотребностей, групповой динамики и пр. Предложенная Б. Ф. Ломовым программа изучения влияния процесса общения на когнитивные процессы породила исследования динамики и эффективности совместного решения сенсорных задач, запоминания материала, сравнения процессов индивидуального и группового мышления и т. д.
Исследования по их характеру можно разделить на фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные и т. д. Фундаментальное исследование направлено на познание реальности без учета практического эффекта от применения знании. Прикладное исследование проводится в целях получения знания, которое должно быть использовано для решения конкретной практической задачи. Монодисциплинарные исследования проводятся в рамках отдельной науки (в данном случае — психологии). Как и междисциплинарные, эти исследования требуют участия специалистов различных областей и проводятся на стыке нескольких научных дисциплин. К этой группе можно отнести генетические исследования, исследования в области инженерной психофизиологии, а также исследования на стыке этнопсихологии и социологии. Комплексные исследования проводятся с помощью системы методов и методик, посредством которых ученые стремятся охватить максимально (или оптимально) возможное число значимых параметров изучаемой реальности. Однофакторное, или аналитическое, исследование направлено на выявление одного, наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта реальности.
Любое исследование включает в себя ряд необходимых этапов. На каждом этапе решается определенная задача. Исследование начинается с постановки задачи: что неизвестно? На следующем этапе ученый анализирует доступную информацию по изучаемой проблеме. Может оказаться, что эта проблема уже решена или существуют аналогичные исследования, не приведшие к окончательному результату. Если ученый сомневается в результатах, полученных ранее, он воспроизводит исследование по методике, предложенной его предшественниками, затем анализирует методы и методики, которые ими применялись для решения этой или аналогичных задач. Наиболее творческий момент исследования заключается в изобретении оригинальной методики. Зачастую методическая находка преобразует научную область и порождает новое направление. Создание Б. Скиннером «проблемного ящика» послужило основой для проведения серии исследований по оперантному научению животных. Изобретение Г. Эббингаузом «бессмысленных слогов» способствовало открытию ряда интересных закономерностей работы долговременной памяти. Предложенный Ф. Гальтоном метод сравнения психических особенностей близнецов положил начало современным психогенетическим исследованиям.
Следующим очень важным этапом является формулировка предположений — гипотез. Для их проверки строится план научного исследования. Он включает в себя выбор объекта — группы людей, с которыми будет проводиться эксперимент или за которыми будет вестись наблюдение. Уточняется предмет исследований — часть реальности, которая будет изучаться. Выбирается место и время исследований и определяется порядок экспериментальных проб, чтобы уменьшить влияние помех на результат эксперимента.
Проведение исследований по намеченному плану — следующий этап. В ходе реального эксперимента всегда возникают отклонения от замысла, которые необходимо учесть при интерпретации результатов и повторном проведении опыта.
После фиксации результатов эксперимента проводится первичный анализ данных, их математическая обработка, интерпретация и обобщение. Исходные гипотезы проверяются на достоверность. Формулируются новые факты или закономерности. Теории уточняются либо отбрасываются как непригодные. На основе уточненной теории делаются новые выводы и предсказания.
Исследования по цели их проведения можно разделить на несколько типов. К первому типу относятся поисковые исследования. Хотя название звучит тавтологично, под ним подразумевается попытка решения проблемы, которую никто не ставил или не решал подобным методом. Иногда аналогичные исследования называют исследованиями «методом тыка»: «Попробуем так, может, что-то и получится». Научные работы такого рода направлены на получение принципиально новых результатов в малоисследованной области.
Второй тип — критические исследования Они проводятся в целях опровержения существующей теории, модели, гипотезы, закона и пр. или для проверки того, какая из двух альтернативных гипотез точнее прогнозирует реальность. Критические исследования проводятся в тех областях, где накоплен богатый теоретический и эмпирический запас знаний и имеются апробированные методики для осуществления эксперимента.
Большинство исследований, проводимых в науке, относится к уточняющим. Их цель — установление границ, в пределах которых теория предсказывает факты и эмпирические закономерности. Обычно, по сравнению с первоначальным экспериментальным образцом, изменяются условия проведения исследования, объект, методика. Тем самым регистрируется, на какую область реальности распространяется полученное ранее теоретическое знание.
И, наконец, последний тип — воспроизводящее исследование. Его цель — точное повторение эксперимента предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных результатов. Результаты любого исследования должны повториться в ходе аналогичного эксперимента, проведенного другим научным работником, обладающим соответствующей компетенцией. Поэтому после открытия нового эффекта, закономерности, создания новой методики и т.п. возникает лавина воспроизводящих исследований, призванных проверить результаты первооткрывателей. Воспроизводящее исследование — основа всей науки. Следовательно, метод и конкретная методика эксперимента должны быть интерсубъективными, т.е. операции, проводимые в ходе исследования, должны воспроизводиться любым квалифицированным исследователем.
Теория естественнонаучного исследования опирается на ряд очевидных предположений. Во-первых, мы считаем, что время непрерывно, направлено от прошлого в будущее. События необратимы. Следствие не может быть раньше причины. Во-вторых, мы полагаем, что пространство, в котором происходят события, изотропно. Процесс в одной из областей пространства происходит так же, как в любой другой области. Наконец, мы предполагаем, что события в мире происходят независимо от нашего знания о них. Мир реален и объективен.
Получаемый исследователем научный результат в идеале не должен зависеть от времени, т.е. явление, закономерность, закон инвариантны относительно времени. И завтра, и послезавтра, и через энное количество лет время простой сенсомоторной реакции человека на световой сигнал должно варьировать в экспериментально установленных на сегодняшний день пределах. Исследователь должен быть убежден, что найденная им закономерность справедлива и для психического процесса (например, мыслительного), который происходит у человека, живущего в Лондоне, и для жителя Москвы (с поправкой на особенности самого исследуемого объекта). В любом случае последовательность этапов решения задачи, а именно — постановка задачи, анализ условий, инкубация, выдвижение гипотез, функциональное решение, конкретное решение, проверка решения и доказательство, должна быть одной и той же. Российский психолог, использующий в своих исследованиях определенную последовательность этапов решения задачи, должен получить те же данные, что и его британский коллега, работающий по той же методике.
Наконец, научное знание интерсубъективно, т.е. научный результат не должен зависеть от личности исследователя, его мотивов, намерений, интуиции и т.д. Научное знание не объективно в том смысле, что может существовать без его носителей, без людей, обладающих квалификацией и способностями понимать и добывать это знание, оно имеет объективный источник — внешний по отношению к субъекту познания мир.
Итак, научный результат должен быть инвариантным относительно пространства, времени, типа объектов и типа субъектов исследования, то есть объективным. До недавнего времени предполагалось, что научный результат не должен зависеть и от метода, т.е. от действий, которые производит исследователь с изучаемым объектом. Однако «квантово-механическая революция» в научном мышлении, происшедшая в начале XX в., породила иной подход.
Известный методолог М. Бунге ввел различие между науками, где результат исследования не зависит от метода, и теми науками, где результат и операция с объектом образуют инвариант: факт есть функция от свойств объекта и операции с ним. К последнему типу наук принадлежит и психология. Поэтому чрезвычайно важно в научной публикации давать описание метода, с помощью которого получены данные.
Требования, которые я привел выше, относятся к идеальному исследованию и его идеальному результату. В реальности же разные моменты времени не идентичны, развитие мира необратимо: он — иной в каждый следующий момент времени. Пространство не изотропно. Нет двух идентичных объектов, которые можно было бы включить в класс эквивалентности. Все люди уникальны, каждый со своей, не похожей ни на чью другую судьбой. Даже однояйцевые близнецы рождаются в разные моменты времени. Тем более уникальны исследователи. Поэтому-то невозможно полностью адекватно воспроизвести эксперимент в других условиях. Личностные черты экспериментатора влияют на ход исследования, на его отношения с испытуемыми, на точность регистрации и на особенности интерпретации данных.
Реальное исследование не может (да и не должно) полностью соответствовать идеальному. Отклонения от идеального исследования, которые в процессе деятельности психолога возникают неизбежно, порождены особенностями мира, в котором мы живем. Нельзя добиться полного соответствия идеала и реальности, даже в ходе научных изысканий. Другое дело, что научный метод должен давать результат, максимально приближенный к идеальному. Мы всегда вынуждены говорить об измерениях, относящихся к разным моментам времени, как о проводимых одновременно. Уникальные объекты мы рассматриваем как эквивалентные друг другу, абстрагируясь от их особенностей. Ситуации, условия проведения разных серий исследования мы полагаем идентичными. Себя же мы считаем идеальными экспериментаторами, компетентными, бесстрастными, движимыми только поиском научной истины, а не желанием заработать деньги или угодить научному руководителю.
Для уменьшения влияния отклонений идеального исследования от реального используются особые методы планирования эксперимента и обработки полученных данных. Термин «реальное исследование» может навести на мысль о том, что эта процедура полностью охватывает природный процесс, однако на самом деле такое представление — иллюзия. В ходе любого «реального исследования» ученый искусственно вычленяет, принимает во внимание некоторую часть реальности, абстрагируясь от других существенных ее сторон. Эта часть реальности, принимаемая в качестве предмета исследования, как бы «контролируется» экспериментатором. Кроме того, условия, в которых проводятся исследование или наблюдение, экспериментальное воздействие, отбор испытуемых, являются факторами, влияющими на результат — на поведение испытуемых и фиксацию параметров наблюдаемого поведения. Поэтому следует различать явления и процессы, происходящие в реальности, и их аналоги, которые мы наблюдаем или воспроизводим в ходе исследования. Обобщим сказанное выше простейшей схемой на рис. 1.2.
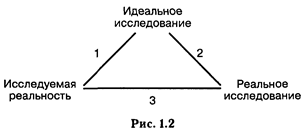
Соответствие реального исследования идеальному будем называть внутренней валидностью.
Соответствие реального исследования изучаемой объективной реальности назовем внешней валидностью.
И наконец, отношение идеального исследования к реальности можно охарактеризовать как теоретическую, или прогностическую, валидность, поскольку план «идеального исследования» строится исходя из теоретической идеализации реальности — гипотез исследования. (Содержание этих понятий будет полнее раскрыто при рассмотрении специфики психологического эксперимента.)
Теория и ее структура
Эксперимент ставится для того, чтобы проверить теоретические предсказания. Теория является внутренне непротиворечивой системой знаний о части реальности (предмете теории). Элементы теории логически зависят друг от друга. Ее содержание выводится по определенным правилам из некоторого исходного множества суждений и понятий — базиса теории.
Существует множество форм неэмпирического (теоретического) знания: законы, классификации и типологии, модели, схемы, гипотезы и т. п. Теория выступает в качестве высшей формы научного знания. Каждая теория включает в себя следующие основные компоненты: 1) исходную эмпирическую основу (факты, эмпирические закономерности); 2) базис — множество первичных условных допущений (аксиом, постулатов, гипотез), которые описывают идеализированный объект теории; 3) логику теории — множество правил логического вывода, которые допустимы в рамках теории; 4) множество выведенных в теории утверждений, которые составляют основное теоретическое знание.
Компоненты теоретического знания имеют разное происхождение. Эмпирические основания теории получаются в результате интерпретации данных эксперимента и наблюдения. Правила логического вывода не определимы в рамках данной теории — они являются производными метатеории. Постулаты и предположения — следствие рациональной переработки продуктов интуиции, не сводимые к эмпирическим основаниям. Скорее, постулаты служат для объяснения эмпирических оснований теории.
Идеализированный объект теории представляет собой знаково-символическую модель части реальности. Законы, формируемые в теории, на самом деле описывают не реальность, а идеализированный объект.
По способу построения различают аксиоматические и гипотетико-дедуктивные теории. Первые строятся на системе аксиом, необходимых и достаточных, недоказуемых в рамках теории; вторые — на предположениях, имеющих эмпирическую, индуктивную основу. Различают теории: качественные, построенные без привлечения математического аппарата; формализованные; формальные. К качественным теориям в психологии можно отнести концепцию мотивации А. Маслоу, теорию когнитивного диссонанса Л. Фестингера, экологическую концепцию восприятия Дж. Гибсона и пр. Формализованные теории, в структуре которых используется математический аппарат, — это теория когнитивного баланса Д. Хоманса, теория интеллекта Ж. Пиаже, теория мотивации К. Левина, теория личностных конструктов Дж. Келли. Формальной теорией (в психологии их немного) является, например, стохастическая теория теста Д. Раша (IRT — теория выбора пункта), широко применяемая при шкалировании результатов психолого-педагогического тестирования. «Модель субъекта со свободной волей» В. А. Лефевра (с определенными оговорками) может быть отнесена к сильно формализованным теориям.
Различают эмпирическое основание и предсказательную мощность теории. Теория создается не только для того, чтобы описать реальность, которая послужила основой для ее построения: ценность теории заключается в том, какие явления реальности она может предсказать и в какой мере этот прогноз будет точным. Наиболее слабыми считаются теории ad hoc (для данного случая), позволяющие понять лишь те явления и закономерности, для объяснения которых они были разработаны.
Последователи критического рационализма полагают, что экспериментальные результаты, противоречащие прогнозам теории, должны привести ученых к отказу от нее. Однако на практике эмпирические данные, не соответствующие теоретическим предсказаниям, могут побудить теоретиков к совершенствованию теории — созданию «пристроек». Теории, как судну, необходима «живучесть», поэтому на каждый контрпример, на каждое экспериментальное опровержение она должна отвечать изменением своей структуры, приводя ее в соответствие с фактами.
Как правило, в определенное время существует не одна, а две или более теорий, которые одинаково успешно объясняют экспериментальные результаты (в пределах погрешности опыта). Например, в психофизике существуют на равных теория порога и теория сенсорной непрерывности. В психологии личности конкурируют и имеют эмпирические подтверждения несколько факторных моделей личности (модель Г. Айзенка, модель Р. Кеттела, модель «Большая пятерка» и др.). В психологии памяти аналогичный статус имеют модель единой памяти и концепция, основанная на вычленении сенсорной, кратковременной и долговременной памяти, и т. д.
Известный методолог П. Фейерабенд выдвигает «принцип упорства»: не отказываться от старой теории, игнорировать даже явно противоречащие ей факты. Второй его принцип — методологического анархизма: «Наука представляет собой по сути анархистское предприятие: теоретический анархизм более гуманен и прогрессивен, чем его альтернативы, опирающиеся на закон и порядок… Это доказывается и анализом конкретных исторических событий, и абстрактным анализом отношения между идеей и действием. Единственный принцип, не препятствующий прогрессу, называется “допустимо все” (anything goes)… Например, мы можем использовать гипотезы, противоречащие хорошо подтвержденным теориям или обоснованным экспериментальным результатам. Можно развивать науку, действуя конструктивно» [Фейерабенд П., 1986].
Научная проблема
Постановка проблемы — начало любого исследования. И самые наивные, «детские» вопросы («Почему небо голубое?» или «Кто сильнее: кит или слон?») являются прототипами проблемы. Не нуждается в исследовании лишь подтверждение очевидности. Однако очевидность субъективна. Можно считать очевидным, что все предметы, брошенные вами, упадут вниз. Но движение тел в невесомости, наблюдаемое в космическом корабле, опровергает эту «истину» ввиду отсутствия там верха и низа в обычном понимании. Красный цвет легко отличить от зеленого, а синий — от желтого, но люди с дефектами цветового зрения их не различают. Считается, что чем больше у человека стремление достичь цели, тем он лучше будет работать. Но если его мотивация превысит некоторый оптимум (закон Йеркса—Додсона), то в деятельности возрастет количество ошибок, научение будет протекать медленнее и т.д.
В неизменных условиях, к которым приспосабливается человек, мир для него беспроблемен. Проблемы порождаются изменчивостью мира и духовной активностью людей.
В отличие от житейской, научная проблема формируется в терминах определенной научной отрасли. Она должна быть операционализированной. «Почему солнце светит?» — вопрос, но не проблема, поскольку здесь не указаны область средств и метод решения. «Являются ли различия в агрессивности, личностном свойстве людей, генетически детерминированным признаком или зависят от влияний семейного воспитания? — это проблема, которая сформулирована в терминах психологии развития и может быть решена определенными методами.
Постановка проблемы влечет за собой формулировку гипотезы. Откуда берется проблема? В науке формулирование проблемы — обнаружение «дефицита», нехватки информации для описания или объяснения реальности. Способность обнаружить «белое пятно» в знаниях о мире — одно из главных проявлений таланта исследователя. Итак, можно выделить следующие этапы порождения проблемы:
— выявление нехватки в научном знании о реальности;
— описание проблемы на уровне обыденного языка;
— формулирование проблемы в терминах научной дисциплины.
Второй этап необходим, так как переход на уровень обыденного языка дает возможность переключаться из одной научной области (со своей специфической терминологией) в другую. Например, причины агрессивности поведения людей можно искать не в психологических факторах, а в биогенетических, и решать проблему методами общей или молекулярной генетики. Можно окунуться в астрологическое знание и попытаться сформулировать проблему в иных терминах — в терминах влияния планет на характер и поведение человека.
Таким образом, уже формулируя проблему, мы сужаем диапазон поиска ее возможных решений и в неявном виде выдвигаем гипотезу исследования.
Проблема — это риторический вопрос, который исследователь задает природе, но отвечать на него должен он сам. Приведем и философскую трактовку понятия «проблема». «Проблема» — объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес» [Философский энциклопедический словарь, 1989].
Проблемы подразделяются на реальные проблемы и «псевдопроблемы», которые кажутся значимыми. Кроме того, выделяется класс неразрешимых проблем (превращение ртути в золото, создание «вечного двигателя» и пр.) Доказательство неразрешимости проблемы само по себе является одним из вариантов ее решения.
Гипотеза
Гипотеза — это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено и не опровергнуто.
В методологии науки различают теоретические гипотезы и гипотезы как эмпирические предположения, которые подлежат экспериментальной проверке. Первые входят в структуры теорий в качестве основных частей. Теоретические гипотезы выдвигаются для устранения внутренних противоречий в теории либо для преодоления рассогласований теории и экспериментальных результатов и являются инструментом совершенствования теоретического знания. О таких гипотезах и ведет речь Фейерабенд. Научная гипотеза должна удовлетворять принципам фальсифицируемости (если в ходе эксперимента она опровергается) и верифицируемости (если в ходе эксперимента она подтверждается). Напомню, что принцип фальсифицируемости абсолютен, так как опровержение теории всегда окончательно. Принцип верифицируемости относителен, так как всегда есть вероятность опровержения гипотезы в следующем исследовании.
Нас интересует второй тип гипотез — предположения, выдвигаемые для решения проблемы методом экспериментального исследования. Это экспериментальные гипотезы, которые не обязательно должны основываться на теории. Точнее, можно выделить, по крайней мере, три типа гипотез по их происхождению. Гипотезы первого типа основываются на теории или модели реальности и представляют собой прогнозы, следствия этих теорий или моделей (так называемые теоретически обоснованные гипотезы). Они служат для проверки следствий конкретной теории или модели. Второй тип — научные экспериментальные гипотезы, также выдвигаемые для подтверждения или опровержения тех или иных теорий, законов, ранее обнаруженных закономерностей или причинных связей между явлениями, но не основанные на уже существующих теориях, а сформулированные по принципу Фейерабенда: «все подходит». Их оправдание — в интуиции исследователя: «А почему бы не так?» Третий тип — эмпирические гипотезы, которые выдвигаются безотносительно какой-либо теории, модели, то есть формулируются для данного случая. Классическим вариантом такой гипотезы является афоризм Козьмы Пруткова: «Щелкни быку в нос, он махнет хвостом». После экспериментальной проверки такая гипотеза превращается в факт, опять же — для данного случая (для конкретной коровы, ее хвоста и экспериментатора). Вместе с тем основная особенность любых экспериментальных гипотез заключается в том, что они операционализируемы. Проще говоря, они сформулированы в терминах конкретной экспериментальной процедуры. Всегда можно провести эксперимент по их непосредственной проверке. По содержанию гипотез их можно разделить на гипотезы о наличии: А) явления; Б) связи между явлениями; В) причинной связи между явлениями.
Проверка гипотез типа А — попытка установить истину: «А был ли мальчик? Может, мальчика-то не было?» Существуют или не существуют феномены экстрасенсорного восприятия, есть ли феномен «сдвига к риску» при групповом принятии решения, сколько символов удерживает человек одновременно в кратковременной памяти? Все это гипотезы о фактах. Гипотезы типа Б — о связях между явлениями. К таким предположениям относится, например, гипотеза о зависимости между интеллектом детей и их родителей или же гипотеза о том, что экстраверты склонны к риску, а интроверты более осторожны. Эти гипотезы проверяются в ходе измерительного исследования, которое чаще называют корреляционным исследованием. Их результатом является установление линейной или нелинейной связи между процессами или обнаружение отсутствия таковой. Собственно экспериментальными гипотезами обычно считают лишь гипотезы типа В — о причинно-следственных связях. В экспериментальную гипотезу включаются независимая переменная, зависимая переменная, отношения между ними и уровни дополнительных переменных.
Готтсданкер выделяет следующие варианты экспериментальных гипотез:
Рекомендуемые страницы:
§
Классический естественнонаучный эксперимент рассматривается теоретически с нормативных позиций: если из экспериментальной ситуации можно было бы удалить исследователя и заменить автоматом, то эксперимент соответствовал бы идеальному.
К сожалению или к счастью, психология человека относится к таким дисциплинам, где это сделать невозможно. Следовательно, психолог вынужден учитывать то, что любой экспериментатор, в том числе и он сам, — человек и ничто человеческое ему не чуждо. В первую очередь — ошибки, т. е. невольные отклонения от нормы эксперимента (идеального эксперимента). Сознательный обман, искажение результатов здесь разбирать не будем. Ошибками дело не ограничивается — их можно иногда исправить. Другое дело — устойчивые тенденции поведения экспериментатора, которые воздействуют на ход экспериментальной ситуации и являются следствием бессознательной психической регуляции поведения.
Эксперимент, в том числе психологический, должен воспроизводиться любым другим исследователем. Поэтому схема его проведения (норма эксперимента) должна быть максимально объективирована, т. е. воспроизведение результатов не должно зависеть от умелых профессиональных действий экспериментатора, внешних обстоятельств или случая.
С позиций деятельностного подхода эксперимент — это деятельность экспериментатора, который воздействует на испытуемого, изменяя условия его деятельности, чтобы выявить особенности психики обследуемого. Процедура эксперимента служит доказательством степени активности экспериментатора: он организует работу испытуемого, дает ему задание, оценивает результаты, варьирует условия эксперимента, регистрирует поведение испытуемого и результаты его деятельности и т.д.
С социально-психологической точки зрения, экспериментатор выполняет роль руководителя, учителя, инициатора игры, испытуемый же предстает в качестве подчиненного, исполнителя, ученика, ведомого участника игры.
Схема эксперимента, если рассматривать его как деятельность экспериментатора, соответствует модели необихевиоризма: стимул — промежуточные переменные — реакция. Экспериментатор дает испытуемому задания, испытуемый (промежуточная переменная) их выполняет. Если исследователь заинтересован в подтверждении (или опровержении) своей гипотезы, то он может неосознанно вносить искажения в ход эксперимента и интерпретацию данных, добиваясь, чтобы испытуемый «работал под гипотезу», создавая привилегированные условия лишь для экспериментальной группы. Такие действия экспериментатора — источник артефактов. Американский психолог Р. Розенталь назвал это явление «эффектом Пигмалиона» в честь персонажа греческого мифа. (Скульптор Пигмалион изваял статую прекрасной девушки Галатеи. Она была так хороша, что Пигмалион влюбился в Галатею и стал умолять богов оживить статую. Боги отозвались на его просьбы, и девушка ожила.)
Исследователь, заинтересованный в подтверждении теории, действует непроизвольно так, чтобы она была подтверждена. Можно контролировать данный эффект. Для этого следует привлекать к проведению исследования экспериментаторов-ассистентов, не знающих его целей и гипотез. Полноценный контроль — перепроверка результатов другими исследователями, критически относящимися к гипотезе автора эксперимента. Однако и в этом случае мы не гарантированы от артефактов — контролеры такие же грешные люди, как и автор эксперимента.
Н. Фридман назвал научным мифом господствовавшую до 1960-х годов в американской психологии точку зрения, заключавшуюся в том, что процедура проведения экспериментов одинакова, а экспериментаторы равно беспристрастны и квалифицированны. Экспериментаторы не анонимны и не безлики: по-разному наблюдают, фиксируют и оценивают результаты эксперимента.
Главная проблема — различия в мотивации экспериментаторов. Даже если все они стремятся к познанию нового, то представления о путях, средствах, целях познания у них различаются. Тем более что исследователи часто принадлежат к разным этнокультурным общностям.

Вместе с тем все экспериментаторы мечтают об «идеальном испытуемом». «Идеальный испытуемый» должен обладать набором соответствующих психологических качеств: быть послушным, сообразительным, стремящимся к сотрудничеству с экспериментатором, работоспособным, дружески настроенным, неагрессивным и лишенным негативизма. Модель «идеального испытуемого» с социально-психологической точки зрения полностью соответствует модели идеального подчиненного или идеального ученика.
Разумный экспериментатор понимает, что эта мечта неосуществима. Однако если поведение испытуемого в эксперименте отклоняется от ожиданий исследователя, он может проявить к испытуемому враждебность или раздражение.
Каковы же конкретные проявления эффекта Пигмалиона?
Ожидания экспериментатора могут привести его к неосознанным действиям, модифицирующим поведение испытуемого. Розенталь, наиболее известный специалист по проблеме воздействия личности исследователя на ход исследования, установил, что значимое влияние экспериментатора на результат эксперимента выявлено: в экспериментах с обучением, при диагностике способностей, в психофизических экспериментах, при определении времени реакции, проведении проективных тестов (тест Роршаха), в лабораторных исследованиях трудовой деятельности, при исследовании социальной перцепции.
Каким же образом испытуемому передаются ожидания экспериментатора?
Поскольку источник влияния — неосознаваемые установки, то и проявляются они в параметрах поведения экспериментатора, которые регулируются неосознанно. Это в первую очередь мимика и пантомимика (кивки головой, улыбки и пр.). Во-вторых, важную роль играют «паралингвистические» речевые способы воздействия на испытуемого, а именно: интонация при чтении инструкции, эмоциональный тон, экспрессия и т.д. В экспериментах на животных экспериментатор может неосознанно изменять способы обращения с ними.
Особенно сильно влияние экспериментатора до эксперимента: при вербовке испытуемых, первой беседе, чтении инструкции. В ходе эксперимента большое значение имеет внимание, проявляемое экспериментатором к действиям испытуемого. По данным экспериментальных исследований, это внимание повышает продуктивность деятельности испытуемого. Тем самым исследователь создает первичную установку испытуемого на эксперимент и формирует отношение к себе.
Известно, что именно «эффект первого впечатления» приводит к тому, что вся дальнейшая информация, не соответствующая созданному образу, может отбрасываться как случайная.
Ожидания экспериментатора сказываются и при записи им результатов эксперимента. В частности, Кеннеди и Упхофф [Kennedy J.L., Uphoff H.F., 1936] установили влияние отношения исследователя на допущенные им ошибки при записи результатов эксперимента. Эксперимент был посвящен изучению «феномена телепатии». Были отобраны две равночисленные группы людей, верящих и не верящих в телепатию. Их просили записывать результаты попыток испытуемого угадать содержание «телепатического послания», которое делал другой испытуемый.
Те, кто верил в телепатию, в среднем увеличили количество угадываний на 63 %, а те, кто в нее не верил, уменьшили его на 67 %.
Розенталь проанализировал 21 работу по проблеме влияния ожидания на фиксацию результатов эксперимента. Оказалось, что 60 % ошибок записи результатов обусловлены стремлением подтвердить экспериментальную гипотезу. В другом обзоре (36 работ) также подтвержден этот факт. Влияние ожидания проявляется не только при фиксации результатов действия людей, но и в экспериментах на животных.
Розенталь провел следующее исследование. Он просил нескольких экспериментаторов фиксировать поведение крыс в ходе эксперимента. Одной группе экспериментаторов говорилось, что они работают со специально выведенной линией «особо умных крыс». Другой группе сообщали, что их крысы «особо глупы». На самом деле все крысы относились к одной и той же популяции и не различались по способностям.
В итоге оценки поведения, поставленные крысам, соответствовали тем установкам, которые были заданы экспериментаторам.
Л. Бергер [Berger L., 1987] выделил следующие типы ошибок экспериментаторов при оценке результатов деятельности испытуемого:
1. Занижение очень высоких результатов. Причиной считается стремление исследователя подсознательно «привязать» данные испытуемого к собственным достижениям. Возможно и завышение низких оценок. В любом случае шкала деформируется и сжимается, так как крайние результаты сближаются со средними.
2. Избегание крайних оценок (как низких, так и высоких). Эффект тот же — группировка данных выше среднего.
3. Завышение значимости одного свойства испытуемого или одного задания из серии. Через призму этой установки производится оценка личности и заданий.
4. Аналогичный случай, но эффект кратковременный, когда особое значение придается заданию, следующему после выделения существенной для экспериментатора личностной черты испытуемого.
5. Аналогичный случай, но оценка опосредована концепцией о связи или противопоставлении тех или иных свойств личности.
6. Ошибки, обусловленные влиянием событий, эмоционально связанных с конкретным испытуемым.
Разумеется, «эффект Пигмалиона» существует, но в какой мере он значим? Может быть, в ряде случаев им можно пренебречь при интерпретации результата? Существуют разные мнения. Можно выделить, по крайней мере, три точки зрения:
Первая. Розенталь утверждает, что фактов универсального влияния в 7 раз больше, чем если бы они были случайными. По крайней мере, 1/3 всех работ, посвященных этой проблеме, влияние экспериментатора на результат эксперимента установлено на уровне значимости р = 0,95.
Вторая. Т. Барбер и М. Сильвер [Barber Т.X., Silver M.J., 1968] считают, что это влияние не значимо и все исследования, посвященные выявлению влияния экспериментатора на результат психологического эксперимента, осуществлялись с ошибками в планировании, плохим выбором статистических мер и при неумелом ведении экспериментирования. Они сделали вывод, что лишь в 29 % исследований подтверждается «эффект Пигмалиона» — влияние подсознательных тенденций экспериментатора на поведение испытуемого и его оценку. Очевидно, этот процент значительно ниже, чем пишет Розенталь.
Третья точка зрения выражена Барбером: мы утверждаем, что влияние может быть, но не в состоянии предсказать, каким оно будет в конкретном эксперименте.
Однако исследователи пытаются выявить более конкретные зависимости. Еще раз отметим, что возможны три варианта ответа на вопрос об «искажающем» влиянии экспериментатора на результаты.
1. Неосуществимый идеал экспериментальной психологии — влияния экспериментатора нет никогда либо оно несущественно, им можно пренебречь. Гипотеза малоправдоподобна.
2. Личность экспериментатора всегда и постоянно влияет на ход и результаты эксперимента. В этом случае эффект влияния можно считать систематической ошибкой измерения— константой, ее легко учесть и «вынести за скобки».
3. Влияние его проявляется по-разному, в зависимости от типа эксперимента, личности экспериментатора и личности испытуемого.
Учет превращается в сложную задачу выделения и контроля большого числа релевантных психологических переменных в каждом конкретном эксперименте.
Существует множество исследований, которые в той или иной мере освещают проблему. Приведем основные факты.
1. На результаты влияет тип личности и состояние экспериментатора: биосоциальные качества (возраст, пол, раса, культурно-религиозная, этническая принадлежность и т. д.); психосоциальные качества (уровень тревожности, потребность в социальном одобрении, агрессивность, враждебность, авторитарность, интеллект, социальный статус, дружелюбие); ситуационные переменные (знакомство с испытуемым, настроение и др.).
Наиболее точно установлено влияние пола исследователя на ход и результаты эксперимента. В частности, маленькие дети всегда лучше и охотнее работают с экспериментаторами-женщинами, а взрослые испытуемые — с экспериментаторами-мужчинами.
Кроме того, в ходе эксперимента присутствие экспериментаторов-мужчин провоцирует испытуемых на активные действия, направленные на осмысление своей ситуации и поиск новой информации, а женщины-экспериментаторы вызывают желание «раскрыть душу», стремление к откровенности, поэтому поведение испытуемых становится более эмоционально выразительным.
Точно установить меру влияния очень трудно. Часто невозможно исключить влияние других переменных: возраста, статуса, дружелюбия и т. д. Так, пол экспериментатора по-разному влияет на мужчин и женщин, бедных и богатых, влияние зависит от взаимного статуса, симпатии и др. Он может быть значимым при выполнении испытуемым заданий одного типа и совершенно незначимым — в других экспериментах. Расширять арсенал методик в ходе одного исследования невозможно.
2. Достоверно выявлена закономерность проявления влияния экспериментатора в экспериментах, различающихся по предмету исследования. Все исследования можно упорядочить по шкале «социальное — биологическое»: от социально-психологических экспериментов («верх» шкалы) до психофизиологических («низ» шкалы). Чем «выше» структурный уровень психической реальности, изучаемой нами, тем это влияние значимее.
Влияние личности экспериментатора максимально в экспериментах по психологии личности и социальной психологии и минимально — в психофизиологических и психофизических экспериментах, исследованиях сенсорики и перцепции. «Среднее» влияние наблюдается при исследовании «глобальных» индивидуальных процессов — интеллекта, мотивации, принятия решения и др.
Какие способы учета и контроля влияния экспериментатора на результат эксперимента можно рекомендовать?
Примерно 98 % психологов считают влияние экспериментатора серьезной методологической проблемой, но на деле о контроле и учете его заботятся значительно меньше, чем о наличии хорошей мебели, освещении и окраске стен лаборатории.
А. Анастази [Анастази А., 1982] считает, что в большинстве правильно проведенных исследований влияние этих факторов практически несущественно, и рекомендует свести его к минимуму, не прибегать к методическим изыскам, а пользоваться здравым смыслом. Если это не удается, необходимо обязательно учитывать влияние экспериментатора при описании условий эксперимента.
Чаще всего рекомендуются и используются следующие методы контроля влияния экспериментатора.
1. Автоматизация исследования. Влияние экспериментатора сохраняется при вербовке и первичной беседе с испытуемым, между отдельными сериями и на «выходе».
2. Участие экспериментаторов, не знающих целей исследования (уже обсуждавшийся ранее «двойной слепой опыт»). Экспериментаторы будут строить предположения о намерениях первого исследователя. Влияние этих предположений необходимо контролировать.
3. Участие нескольких экспериментаторов и использование плана, позволяющего элиминировать фактор влияния экспериментатора. Остается проблема критерия отбора экспериментаторов и предельного числа контрольных групп. Влияние экспериментатора полностью не устранимо, так как это противоречит сути психологического эксперимента, но может быть в той или иной мере учтено и проконтролировано.
Рекомендуемые страницы:
§
Кросскультурное исследование является, по сути, частным случаем плана сравнения группы. При этом число сравниваемых групп может колебаться (минимум — 2 группы).
Условно можно выделить 2 основных плана, используемых в кросскультурных исследованиях.
Первый план: сравнение 2 и более естественных или отобранных методом рандомизации групп из 2 популяций.
Второй план: сочетание плана сравнения 2 и более групп с лонгитюдом, при котором сопоставляются не только различия в особенностях поведения этих групп, но изучается процесс изменения этих особенностей под влиянием времени либо времени и дополнительных внешних факторов.
Однако содержание кросскультурных исследований настолько своеобразно, что большинство специалистов в области теории психологического метода выделяют их в особый тест.
Главная особенность кросскультурной психологии — предмет, который и определяет специфику метода.
Кросскультурная психология берет свое начало в трудах В. Вундта [Вундт В., 1998] и французских социологов начала XX в.: Г. Лебона [Лебон Г., 1998], А. Фулье [Фулье А., 1998], Г. Тарда [Тард Г., 1998].
Однако эти ученые не проводили эмпирических исследований. Методологом кросскультурной психологии (как и эмпирической психологии) стал Вильгельм Вундт. В 1900-1920 гг. он предпринял издание грандиозной, 10-томной «Психологии народов». Главным проявлением «народного духа» он считал языковую деятельность (в отличие от языковой системы — предмета исследования лингвистов). Этот труд наряду с «Основами физиологической психологии» стал основным вкладом В. Вундта в психологию. Работа «Проблемы психологии народов» является сборником статей, представляющих собой краткое изложение исследовательской программы В. Вундта, и служит введением в многотомную «Психологию народов».
Вундт выделял в науке о «национальном духе» по крайней мере 2 дисциплины: «историческую психологию народов» и «психологическую этнологию». Первая является объяснительной дисциплиной, вторая — описательной.
Законы «психологии народов» — суть законы развития, а основа ее — 3 области, содержание которых «превышает объем индивидуального сознания: язык, мифы и обычаи». В отличие от французских психологов и австрийских психоаналитиков В. Вундта меньше всего интересовало массовое поведение и проблема «личность и масса», а больше — содержание «национального духа» (Volksgeist), что, впрочем, соответствовало представлению о психологии как «науке о сознании». Он подчеркивает генетический приоритет «национального духа» перед индивидуальным: «В истории человеческого общества первым звеном бывает не индивидуум, но именно сообщество их. Из племени, из круга родни путем постепенной индивидуализации выделяется самостоятельная индивидуальная личность, вопреки гипотезам рационалистического Просвещения, согласно которым индивидуумы отчасти под гнетом нужды, отчасти путем размышления соединились в общество». Скрытая полемика с французскими социальными психологами присутствует и в трактовке роли подражания. В. Вундт на примерах усвоения индивидуумами 2 языков показывает, что подражание есть не основной, а лишь сопровождающий фактор при социальных взаимодействиях, аналогичной критике он подвергает и «теорию индивидуального изобретения». На место этих теорий он ставит процессы «общего творчества», «ассимиляции» и «диссимиляции», но до конца не раскрывает их природу.
Основным методом «психологии народов», по В. Вундту, являлось понимание, сравнительная интерпретация элементов культуры.
В современной кросскультурной психологии господствует эмпирический метод.
Предметом кросскультурных исследований являются особенности психики людей с точки зрения их детерминации социокультурными факторами, специфичными для каждой из сравниваемых этнокультурных общностей.
Отсюда вытекает то, что для правильного планирования кросскультурного исследования следует, во-первых, как минимум, определиться с тем, какие особенности психики могут быть потенциально подвержены влиянию культурных факторов, а также выявить множество параметров поведения, соответствующих этим особенностям. Во-вторых, требуется дать операциональные, а не теоретические определения понятиям «культура» и «культурный фактор», а также описать множество этих факторов, которые предположительно могут повлиять на различия в психических особенностях и поведении людей, принадлежащих к разным культурным общностям.

В-третьих, следует выбрать адекватный метод исследования и адекватную методику для измерения особенностей поведения людей, принадлежащих к разным культурам.
В-четвертых, следует определиться с объектом исследования. Нужно выбрать для изучения такие популяции, которые явно представляют собой субъекты разных культур. Кроме того, важнейшее значение имеет отбор или выбор групп из популяций, которые были бы репрезентативны с точки зрения принадлежности к сопоставляемым культурам.
Рассмотрим более подробно эти вопросы.
Кросскультурная психология начинается там, где кончается психогенетика. Результатом психологического исследования является определение относительного вклада генотипа и среды в детерминацию индивидуальных различий людей по какому-либо психологическому свойству.
В состав средовой детерминации входят и культурные факторы. Следовательно, на первый взгляд, гипотеза любого кросскультурного исследования должна касаться тех свойств психики, которые в большей мере зависят от среды, чем от наследственности, или же существенно зависят от среды.
Однако нет ни одного индивидуально-психологического параметра, который в той или иной степени не подвергался бы средовым влияниям. Поэтому гипотезы о культурной детерминации психологических свойств охватывают весь их спектр: от психофизиологических параметров до ценностных ориентации личности.
Среди факторов культуры, которые могут потенциально влиять на индивидуально-психологические различия, выделяются универсальные и специфические [Лебедева Н. М., 1998].
Существует множество классификаций, характеризующих психологические особенности культур.
Наиболее популярна классификация X. С. Триандиса [Triandis Н. С., 1994], который сформулировал понятие «культурный синдром» — определенный набор ценностей, установок, верований, норм и моделей поведения, которыми одна культурная группа отличается от другой.
Основными измерениями культуры он считает «простоту—сложность», «индивидуализм—коллективизм», «открытость—закрытость». Ряд исследователей [в частности, Хофстед Дж., 1984] выделяют такие параметры, как: 1) дистанция власти — степень неравномерности распределения власти с точки зрения данного общества, 2) избегание неопределенности и 3) маскулинность—фемининность.
Разумеется, эти параметры являются крайне примитивными. Даже «закоренелый» этнопсихолог никогда не сочтет их достаточными и даже необходимыми для описания той или иной культуры.
Сам термин «культура» — крайне неопределенный. Можно вслед за К. Поппером считать культурой «третий мир», созданную людьми систему «преобразованной реальности».
Чаще всего культурные различия сводят к этническим, и под кросскультурным исследованием подразумевают этнопсихологическое исследование. Иногда культуры (точнее — группы людей, принадлежащие к разным культурам) различают по другим критериям: 1) место проживания — речь идет о «городской» и «сельской» культуре; 2) религиозная принадлежность — имеют в виду православную, мусульманскую, протестантскую и пр. культуры; 3) приобщенность к европейской цивилизации и т.д.
Гипотезы, которые формируются при проведении кросскультурных исследований, выражают причинно-следственные отношения между культурными факторами и психическими особенностями. Культурные факторы считаются причиной различия психических свойств индивидуумов, принадлежащих к разным культурам.
Существует обоснованное предположение об обратном влиянии психических особенностей индивидуумов на характер культуры народов, к которым эти народы принадлежат.
В частности, такие гипотезы можно выдвинуть в отношении темпераментных, интеллектуальных и ряда других психических особенностей, наследственная детерминация которых весьма существенна. Кроме того, биофизические факторы также влияют на индивидуально-психологические различия. Однако классические кросс-культурные исследования проводятся в рамках парадигм: «культура—причина, психические особенности — следствие».
Очевидно, что любое кросскультурное исследование строится по неэкспериментальному плану, экспериментатор не может управлять культурными факторами. Следовательно, нет никаких методических оснований считать связь «культура — особенности психики» причинно-следственной. Правильнее было бы говорить о корреляционной зависимости.
В зависимости от методической направленности и предмета содержания крос-скультурные исследования делятся на несколько типов.
Ф. Ван де Вайвер и К. Леун (1997) предложили классифицировать кросскультур-ные исследования в зависимости от двух оснований: 1) конфирматорное (направленное на подтверждение либо опровержение теории) — эксплораторное (поисковое) исследование, 2) наличие или отсутствие контекстных переменных (демографических или психологических).
Обобщающее исследование проводится при наличии возможностей переноса или обобщения результатов, полученных при исследовании одной культурной общности, на другие. Эти исследования опираются на некоторую теорию и не учитывают влияния контекстных переменных, поэтому в строгом значении не могут быть отнесены к кросскультурным. Они проводятся для подтверждения универсальных гипотез, относящихся ко всем представителям вида Homo sapiens и уточняют внешнюю валидность.
Исследования, базирующиеся на теории, включают факторы кросскультурного контекста. В них проверяются гипотезы о конкретных связях культурных и психических переменных. В строгом значении термина «кросскультурное исследование» только их можно считать таковыми. Но чаще встречаются исследования психологических различий. Обычно применяется стандартная измерительная процедура и определяется существование значимых различий в среднем или стандартном разбросе измеряемых психических свойств 2 или более групп, принадлежащих к разным культурам. Культурные факторы при планировании исследований не учитываются, а привлекаются лишь для интерпретации полученных различий.
Последний тип исследований — «специальные исследования внешней валидности» (точнее было бы сказать — экологической) направлены на выявление различий в проявлении психических свойств под влиянием культурных факторов. Исследуется влияние ряда факторов на 1 (реже 2 или 3) психические особенности. Для обработки данных привлекается техника регрессионного анализа. Как правило, у исследователей нет никаких предварительных соображений о том, какие культурные переменные и в какой мере влияют на психические особенности.
Главная проблема планирования кросскультурного исследования — конструирование или выбор методики для регистрации параметров поведения, валидных по описанию к изучаемым психическим особенностям. Любая психологическая измерительная методика является продуктом культуры, чаще всего — западной, и может иметь адекватное значение только в контексте этой культуры. Первая задача исследователя —добиться высокой (содержательной) валидности методики, иначе испытуемые попросту не будут «включаться» в процесс исследования.
То, что многие авторы считают достижением конструктной (концептуальной) валидности, является не чем иным, как свидетельством того, что обобщенные представления об исследуемом психическом явлении у лиц, принадлежащих к изучаемым культурным группам, соответствуют теоретическим представлениям исследователя.
И в «кросскультурном треугольнике» (не путать с Бермудским) необходимо добиться универсальности поведенческих признаков, измеряемого свойства и их высокой валидности (рис. 5.20).
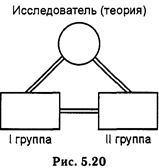
Хотя многие исследователи считают процедуру нахождения «культурно-поведенческих аналогов» основной, я не склонен разделять их позиции. В конце концов физик-теоретик имеет право на свое суждение о причинах падения тел на землю, отличное от представления, принятого в том или ином племени или социальной группе. Равным образом это касается и психологии как естественной науки. Если же понятие «интеллект» кто-то трактует как социальный интеллект или сводит его к успешности решения учебных задач, а не рассматривает его теоретически как общую способность к умственной деятельности, то это его проблема. Другой вопрос, в какой мере на теоретическое представление автора исследования влияет его принадлежность к определенной культуре? Является ли его взгляд универсальным?
Для того чтобы избежать «культуральной односторонности», предложены два подхода: конвергентный и дивергентный. Конвергентный подход состоит в том, что исследование проводят представители всех культурных групп, которые являются объектом.
Каждый исследователь разрабатывает свой тест, который затем предъявляется каждой группе.
Таким образом, план исследования можно отобразить следующей схемой (для 2 групп):
Группа I О1 (I) О2 (II)
Группа II О3 (I) О4 (II)
Очевидно, результаты сравнения О1 и О3 а также О2 и О4 будут свидетельствовать о межгрупповых различиях. Причем сравнение DО13 и DО24 станет индикатором дифференцирующей силы методик О(I)и О(II).
Различия результатов О1 и О2 , а также О3 и О4 будут являться показателями влияния методики измерения на проявления поведения в разных группах. Сопоставление DО12 и DО34 дает информацию об эффекте смещения: влияние взаимодействия методики измерения и состава группы.
Дивергентный подход состоит в учете представлений о природе явления, сложившихся у исследователей, принадлежащих к разным культурам, при составлении одной методики. Этот подход возможен лишь при разработке методики, где разнородность заданий не повлияет на ее надежность и валидность (например, при составлении опросников на ценностные ориентации).
В иных случаях этот подход ничем не отличается от конвергентного.
И все же идеалом для большинства западных исследователей является создание универсальных или свободных от культуры методик.
Методика, составленная исследователем, принадлежащим к той же культурной среде, что и тестируемая группа, скорее всего даст иные результаты при ее применении на группе лиц, принадлежащих другой культуре.
В частности, тест на социальный интеллект, разработанный на материале исследований жизни и обычаев одного из кочевых племен Северо-Восточной Африки, будет более успешно решен представителями этого племени, нежели тест, разработанный российским психологом на материале жизни рабочих и инженеров Среднего Урала.
Эффекты последовательности могут оказать влияние на результаты исследования, проведенного с помощью «конвергентного» плана. Поэтому рекомендуется удвоить число групп и каждую группу тестировать в определенной последовательности.
Усовершенствованный план конвергентного кросскультурного исследования для 2 культуральных общностей выглядит следующим образом:
Культура Группа 1 О1(I) О2(II)
Группа 2 О3(I) О4(II)
Культура II Группа 3 О5(I) О6(II)
Группа 4 О7(I) О8(II)
Но даже этот план недостаточен. Необходимо контролировать влияние исследователя. В большинстве кросскультурных исследований тестирование проводит психолог, принадлежащий к одной из 2 тестируемых культуральных общностей или же к 3-й — чаще всего западноевропейской либо североамериканской. Коммуникативные проблемы могут быть основным источником погрешностей. Дело не только в знании испытуемым языка, которым владеет исследователь, или наоборот — знания исследователем языка изучаемой национальной группы. Различия в поведенческих стереотипах, установках, способах общения и т.д. могут быть настолько велики, что приведут к нарушению всей процедуры тестирования и полному искажению результатов. Поэтому целесообразно, чтобы кросскультурные исследования проводились представителями обеих тестируемых культурных групп. Разумеется, применение балансировки, учитывающей личность экспериментатора, резко увеличивает число тестируемых групп. В этом случае следует отказаться от полного плана и воспользоваться планом «латинский квадрат».
Наиболее подвержены влиянию культурных факторов результаты вербальных тестов. Требуется оценить адекватность в каждой исследуемой группе изучаемых психологических конструктов, способа предъявления материала и содержания вопросов или утверждений.
Д. Кэмпбелл и О. Вернер [Werner О., Campbell D. Т., 1970] предложили технику двойного перевода методики. Тест переводится с языка оригинала на язык культурной группы, а затем другой переводчик независимо переводит этот текст на язык оригинала. Рассогласования используют для устранения недостатков в формулировке утверждений. Второй прием, предложенный теми же авторами, — «децентрация», а именно, исключение из оригинального текста методики понятий и выражений, которые сложны для перевода или специфичны для культуры, к которой принадлежит автор методики.
Однако до сей поры разработано лишь несколько методик, удовлетворяющих критерию культурной универсальности.
Американские этнопсихологи разделяют все методики на «культурно-специфичные» и «универсальные».
К числу тестов, «свободных от влияния культуры» (и то — по мнению авторов), принадлежат «прогрессивные матрицы» Дж. Равена, «Культурно-свободный тест» (CFT) Р. Б. Кеттелла, опросники Г. Ю. Айзенка ЕР1 и EPQ, тест МакКрея и Косты «Большая пятерка» (Big Five) и ряд других.
Большинство этнопсихологов считает, что попытки создания методик, свободных от влияния культуры, сродни поискам «вечного двигателя».
Таблица. 5.15
Рекомендуемые страницы:
§
Инструкция испытуемому. Как вы считаете, насколько характерны данные качества для вашего народа (для другого народа)? Качества оцениваются по 4-балльной шкале: 1 — данное качество отсутствует, 2 — качество выражено слабо, 3 — качество выражено средне, 4 — качество выражено в полной мере.
К числу специализированных методических свойств относится «Атлас аффективных значении», созданный Ч. Осгудом и его сотрудниками в 1975 г. Атлас содержит свыше 620 объективных индикаторов субъективных культур. Он является результатом обобщения кросскультурных исследований психосемантических структур юношей и подростков. Однако даже этот атлас создавался на основе «универсальной» психологической концепции — теории метода «семантического дифференциала» Ч. Э. Осгуда [Osgood С. Е., 1962].
Процесс разработки измерительной методики для кросскультурного исследования можно разделить на 3 этапа: 1) выбор группы «надкультурных» (универсальных) переменных и создание культурно-универсальной методики; 2) выделение культурно-специфических переменных и дополнение методики; 3) корректировка методики путем ее кросскультурной валидизации. Такую кросскультурную валидизацию и модификации прошла методика измерения социальной дистанции Е. С. Богардуса [Bogardus Е. S., 1950].
В России очень мало методик, разработанных специально для кросскультурных исследований. Часто применяются модификации метода «Семантический дифференциал» Ч. Э. Осгуда (В. Ф. Петренко), модификации теста личностных конструктов Дж. Келли (Г. У. Солдатова).
К числу оригинальных следует отнести методику «Типы личностной идентичности», разработанную Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой, а также методику — «Культурно-ценностный дифференциал» (Г. У. Солдатова, И. М. Кузнецов и С. В. Рыжова). Рассмотрим последнюю в качестве примера. Цель этой методики — измерение групповых ценностных ориентаций: на группу, на власть, друг на друга и на социальные изменения.
Ценностные ориентации сформулированы в рамках психологического универсального измерения культуры «индивидуализм—коллективизм».
Шкала «ориентация на группу — ориентация на себя» рассматривается на основе таких параметров, как внутригрупповая поддержка (взаимовыручка — разобщенность), подчиненность группе (подчинение — самостоятельность) и традиционность (верность традициям — разрушение традиций). Ориентация на изменения рассматривается в диапазоне «открытость к переменам — сопротивление переменам» по параметрам: открытости — закрытости культуры (открытость — замкнутость), ориентации на перспективу (устремленность в будущее — устремленность в прошлое), степени риска (склонность к риску — осторожность). Ориентация друг на друга — в диапазоне «направленность на взаимодействие — отвержение взаимодействия» по параметрам: толерантности — интолерантности (миролюбие — агрессивность), эмоциональности (сердечность — холодность) и мотивации достижения (уступчивость — соперничество). Ориентация на власть — в диапазоне «сильный социальный контроль — слабый социальный контроль» по параметрам: подчинения запретительным и регулирующим стандартам общества (дисциплинированность — своеволие, законопослушность — анархия) и значимость авторитета (уважение к власти — недоверие к власти) (табл. 5.15.).
На основе «сырых» данных вычисляется степень выраженности измеряемого качества и коэффициент совпадения степеней выраженности качеств в разных группах.
Перейдем к решающему моменту любого кросскультурного исследования: выбору популяции, формированию и отбору групп.

Исследователь в первую очередь должен выбрать популяцию, соответствующую гипотезе и плану эмпирического исследования.
Возможны несколько вариантов. Во-первых, исследователь выбирает популяцию, исходя из практических задач: часто исследования проводятся в рамках, финансируемых государством, научными и общественными фондами, а также частными лицами программ. Иногда исследования проводятся с целью прогнозирования, в частности, конфликтов на межэтнической почве.
Исследователь проводит работу с той популяцией, которая соответствует требованиям заказчика.
Второй вариант: исследователь выбирает популяцию, исходя только из научных предпосылок. Кросскультурные популяции выбираются в соответствии с научной гипотезой, которая основана на психологической теории. Как правило, исследователи выбирают популяции, исходя из их положения на континууме свойства, характеризующего культуры: это могут быть «открытость—закрытость», «индивидуализм—коллективизм» и пр. Выбор двух популяций позволяет проверить качественную гипотезу о влиянии культуры на поведение, а 3 популяции, расположенные, соответственно, на краях и в центре континуума, позволяют проверить количественную гипотезу. Реже популяции отбираются случайным образом из соображений удобства либо путем рандомизации. Часто приводят пример исследования С. Шварцем [Schwartz S. Н., 1992] структуры ценностных ориентации у представителей 36 культур. Для этого С. Шварц приглашал исследователей, принадлежащих к различным этносам и желающих с ним сотрудничать, принять участие в эксперименте.
Проведение исследований на естественных группах, которые «попались под руку», в современной методической практике не приветствуется, поскольку научные результаты, полученные таким путем, недостаточно валидны и с трудом поддаются теоретической интерпретации.
После выбора популяций исследователь, занимающийся межкультурным исследованием, должен сформировать выборку и распределить испытуемых по группам.
В простейшем случае выборка состоит из двух групп испытуемых, принадлежащих к разным культурам.
Отбор испытуемых в группы из популяции определяется путем рандомизации либо путем стратометрической рандомизации.
Но проблема в том, каким путем привлечь испытуемых к участию в исследовании. Исследователь располагает ограниченным набором способов. Он может включиться в практическую работу, например в деятельность школьной психологической консультации, и обследовать тех детей, которых приводят родители или которые сами обращаются за помощью.
В этом случае психолог может столкнуться с проблемой смещенности обследуемых групп. Предположим, ему надо сравнить особенности общения русских и армянских детей. Если он консультирует детей, испытывающих трудности при адаптации к условиям общения в русскоязычной школе, то можно предположить, что армянские дети будут испытывать большие проблемы в адаптации, но далеко не всегда их родители будут обращаться к русскому психологу.
Исследователь может привлечь добровольцев (за плату или энтузиастов). Но известно, что группы добровольцев отличаются по своим характеристикам от характеристик популяции в целом. К тому же многие добровольцы могут включаться в исследование по политическим, идеологическим и другим внешним мотивам.
Также психолог может уговорить людей принять участие в исследовании, но при этом он должен иметь в виду, что на уговоры поддаются люди, которым легче вступить в контакт с представителем той культуры, к которой принадлежит исследователь. Поэтому выборка «рекрутеров» будет нерепрезентативной по отношению к популяции. Скорее всего, результаты будут смещены в сторону сходства психических характеристик двух культуральных групп. Это произойдет даже в том случае, если исследователь не принадлежит ни к одной из изучаемых культурных групп (хотя в этом случае эффект будет несколько ослаблен). Как правило, на контакт с исследователем-психологом идут люди с высоким уровнем образования и доходов, знающие иностранные языки, открытые и толерантные, склонные к сотрудничеству.
Наконец, исследователь может отобрать испытуемых принудительно, если в этом заинтересованы представители власти. Такие исследования проводятся в армии, в тюрьмах, в закрытых учебных заведениях — там, где поведение людей жестко контролируется.
Однако в этом случае исследователь может столкнуться с искажениями результатов, саботажем и нежеланием испытуемых сотрудничать с ним.
Дополнительные способы контроля описаны в пособии, изданном под редакцией Т. В. Корниловой.*
* Корнилова Т. В. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М.: 1998.
Кросскультурные исследования в психологии приобретают все больший размах и популярность. Интерес к кросскультурным исследованиям в наше время подогревается нерешенными политическими, социальными и экономическими проблемами, вспышками межнациональных конфликтов и бытового национализма.
Осознание того, что мы живем в поликультурном мире, что непривычное не обязательно плохо, приходит к человечеству с большим опозданием.
Рекомендуемые страницы:
§
Основной задачей психогенетики является установление относительного вклада условий среды и наследственности в индивидуальные психологические различия.
Изменчивость людей обусловлена взаимодействием наследственности и среды. Наследованием называется передача информации от одного поколения индивидов к другому. Сумма всех генов организма называется генотипом. Фенотип — сформированные в течение жизни внешние проявления индивида (особенности конституции, поведения и пр.), которые формируются в результате влияния генотипа и среды. Различие фенотипов людей и является проявлением индивидуальной вариативности человеческих индивидов.
Понятие среды в психогенетике шире, нежели в психологии. В психологии под этим термином понимается система социоэкономических, культуральных и социально-психологических условий развития личности. В психогенетике понятие «среда» включает любые внешние воздействия (от физических и биологических до социокультурных).
Психогенетика, по сути, исследует детерминацию вариативности психологических переменных, характеризующих индивидов, генетическими методами.
Связь особенностей поведения со средовыми и генетическими детерминантами трактуется как причинная.
Индивидуально-психологические особенности рассматриваются как следствия влияния на развитие индивида генома и среды. При этом решается не психологическая, а генетическая проблема: выявление генетических и средовых детерминант, определяющих вариацию индивидуально-психологических признаков, а также их относительной доли в детерминации развития этих признаков.
Поскольку наличие причинной зависимости между средой, генотипом и фенотипом (поведением) очевидно, то в отличие от психологического исследования в психогенетическом не решается проблема отделения корреляционных связей от причинных. Это создает предпосылки для трактовки результатов корреляционного измерительного исследования как причинно-следственных связей.
В психогенетике человека эксперимент невозможен: только в антиутопии «Мы» Е. Замятина или утопии Т. Кампанеллы «Город Солнца» возможно искусственное скрещивание людей с разными фенотипами. Трудно представить, что родители близнецов по своей воле согласятся на предложение экспериментатора разлучить близнецов или поместить одного из близнецов в культурно обедненную среду. Общечеловеческая этика запрещает применение активных методов психогенетических исследований на человеке (хотя они возможны, если в качестве модели человека используются животные). Нельзя любое психогенетическое исследование рассматривать как квазиэксперимент, как это иногда делается в психологических учебниках. Психогенетики используют множество вариантов метода систематического наблюдения (часто называемых корреляционным исследованием), а также эксперимент ex-post-facto (вариант квазиэксперимента). К таковому следует отнести метод разлученных близнецов и метод приемных детей. Пожалуй, единственный методический прием в психогенетике можно считать экспериментальным — это метод контрольного близнеца.
Рассмотрим более подробно систему психогенетических методов.
В этом разделе будет идти речь только о планировании исследований в психогенетике. Методы статистической обработки данных психогенетических исследований и моделирования рассматриваться не будут. Я отсылаю читателей к 2 основным учебникам, где подробно изложены эти вопросы: Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М., Григоренко Е. А. Психогенетика. М.: Аспект-пресс, 1999, и Малых С. Б., Егорова М. С., Мешкова Т. А. Основы психогенетики. М.: Эпидавр, 1998.
4) метод приемных детей.
Рассмотрим их последовательно.

Генеалогический метод предложен Ф. Гальтоном в 1869 г. Наиболее часто он используется в медицинской генетике для выявления влияния наследственности при заболеваниях, но первоначально он использовался Ф. Гальтоном для изучения наследственности таланта. Генеалогический метод удобно применять, если исследуются дискретные, качественные признаки (например — аномалии цветового зрения). Гальтон считал выдающийся талант качественным, дискретным признаком. Сегодня большинство исследователей считает, что психологические признаки имеют полигенетическое наследование, то есть в их детерминацию вносит вклад множество генов.
Первоначальная генетическая идея Гальтона была простой: чем ближе родство, тем более похожи друг на друга будут люди по определенному генетически детерминированному признаку (родитель—ребенок, братья и сестры). Родственники первой степени родства имеют 50(?)% общих генов. С уменьшением степени родства сходства уменьшаются.
При составлении генеалогических деревьев соблюдают два принципа: 1) обязательное наличие родственников первой степени родства, 2) максимальная широта охвата родственников. Первый принцип — обязательный, второй — желательный.
В 1931 г. предложена методика для символического описания родословной (генеалогического дерева).
Анализ родословной, к сожалению, не позволяет строго разделить влияние сре-довой и генетической составляющих в детерминации признака, поскольку средовая составляющая никак не контролируется.
Одним из видов гено-средового взаимодействия является соответствие генотипа средовым условиям развития индивида. Например, ребенок с задатками музыкальных способностей может родиться в среде потомственных музыкантов (семья Бахов) или ребенок с задатками математического интеллекта воспитываться в среде математиков (семья Бернулли) и т.д. Следовательно, невозможно выделить доли генетического и средового влияния на уровень развития индивидуального таланта. Поскольку наряду с генетическим исследованием существует «культуральное исследование», преемственность интеллектуальных традиций, определяющих взаимодействие генотипа и среды. Причем речь может идти о дискретных признаках, имеющих разный тип наследования (доминантный, рецессивный, сцепленный с полом). Таковых индивидуально-психологических признаков не существует.
Низкая внутренняя валидность метода анализа родословных ограничивает его применение в психологическом исследовании. Однако его применил известный российский генетик В. П. Эфронмсон для выявления генетической детерминации таланта и склонности к альтруизму.
Еще один источник нарушения внутренней валидности — нерандомизированность выборки. Генеалогическое дерево строится относительно носителя определенного признака, который называется «пробандом». Следовательно, генеалогический метод может быть отнесен к одной из версий метода исследования единичных случаев.
Семейные исследования являются более развитой формой психогенетических методик. В этом исследовании сравниваются родственники, принадлежащие к нескольким поколениям и к одному поколению. Семейное исследование относится к одному из видов корреляционных исследований.
Отбор выборки осуществляется путем рандомизации. Элементом выборки является семья, состоящая из представителей нескольких поколений.
Семейные исследования можно применять для изучения не только качественных дискретных, но и непрерывных количественных признаков, имеющих полигенетическое наследование.
В ходе исследования измеряемой зависимой переменной считается психологический признак, а независимой — доля генетического сходства между родственниками. Родные братья и сестры имеют половину общих генов, дети от разных браков — четверть (так же как двоюродные братья и сестры и т. д.).
Сравниваются также родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками, тети и дяди с племянниками.
При семейном исследовании нет контроля за факторами общей и различающейся среды. Генетическое и средовое влияние скоррелированы: очевидно, что более сходные генетически родственники развиваются в более сходной среде. Поэтому при всем желании в семейном исследовании невозможно отделить влияние на дисперсию признака среды и генотипа.
В настоящее время психогенетики сравнивают не родных братьев и сестер, а двоюродных братьев и сестер с троюродными. Родные братья и сестры имеют общую семейную среду, влияют друг на друга, а двоюродные и троюродные братья и сестры живут в разных местах и подвергаются различным влияниям.
Существует еще ряд трудностей при интерпретации данных психогенетических семейных исследований, особенно при сравнении родителей и детей:
1) влияние генотипа на психические признаки, сцепленные с возрастом,
2) методики, рассчитанные на диагностику лиц разного возраста, могут быть малосопоставимы.
Это приводит к появлению дополнительной дисперсии признака и занижению значений коэффициентов корреляции. Для того чтобы учесть эти погрешности, проводятся лонгитюдные семейные исследования, а также отсроченное тестирование: первоначально тестируются родители, а дети тестируются по достижении взрослого возраста.
Метод приемных детей является самым валидным методом психогенетики. Это единственный способ раздельного контроля влияния генетических и средовых факторов. Идея метода проста.
Некоторые родители отказываются от своих детей, которых усыновляют (удочеряют) другие люди. Процедура усыновления в развитых странах подвергается юридическому и медицинскому контролю. Поэтому известны как характеристики генетических родителей и условия их совместного проживания, так и особенности жизни приемных родителей.
Дети генетически схожи с первыми родителями на 50%, но не живут в общей среде, с приемными родителями они не имеют общих генов, но живут в общей среде. Если дети были усыновлены сразу после рождения или в первые месяцы жизни, то средовыми влияниями, полученными в первой семье, можно пренебречь. Следовательно, более высокие корреляции психологических свойств генетических родителей и детей будут говорить о генотипическом влиянии, а большие корреляции приемных родителей и детей — о средовом влиянии на индивидуальные различия по наблюдаемым признакам.
В качестве контроля используют родителей и детей, живущих совместно. Наиболее продуктивным вариантом выделения средовой составляющей воздействия является исследование приемных детей, имеющих разных родителей, но попавших в одну семью.
Сходство биологических родителей с разлученными детьми дает оценку насле-дуемости признака, а сходство приемных детей с усыновившими их родителями указывает на долю влияния среды.
Схема сравнения в полном варианте метода приемных детей включает следующие группы испытуемых:
1) биологические родители;
2) приемные сиблинги;
3) средовые родители;
4) генетические плюс средовые родители (обычная семья);
5) обычные сиблинги в обычной семье;
6) приемные неродственные дети, усыновленные одной семьей.
Последняя группа дает информацию о «чистом» влиянии среды на индивидуально-психологические признаки, поскольку семейная среда у них общая, а общих генов нет.
Основной задачей исследователя, использующего метод приемных детей, является отбор таких семей, усыновленных детей, которые бы репрезентировали характеристики популяции в целом. Известно, что усыновляют детей, как правило, люди с уровнем дохода выше среднего, имеющие уровень образования более высокий, чем средний в популяции, но не отличаются от нее уровнем и структурой интеллекта. Как правило, это люди среднего и старшего возраста, обладающие большим жизненным опытом, чем матери, отказывающиеся от детей. Следовательно, семейная среда у приемных детей будет отличаться от средней в популяции.
Обнаружен любопытный феномен: в хорошей среде, которую создают принявшие детей родители, IQ приемных детей сдвинут в сторону высоких значений, если биологические родители имели высокий интеллект, и в сторону низких значений, если биологические родители имели сниженный интеллект.
Ограничения этого метода весьма существенны: женщины, отказывающиеся от детей, — это особая группа. Исследователи должны контролировать ее состав, чтобы выборка не отклонялась от популяции.
Кроме того, необходимо контролировать сходство черт родных и приемных родителей, которое может исказить результаты.
Многие исследователи подчеркивают роль пренатальных влияний на развитие индивидуально-психологических свойств ребенка. Внутриутробные влияния являются средовым фактором, и сходство между матерью, отказавшейся от ребенка, и ребенком может быть не обусловлено генетическим фактором.
Р. Пломин [Plomin R., 1980] предлагает контролировать фактор пренатальных влияний сравнением корреляций пар «ребенок — генетическая мать» с парами «ребенок — генетический отец». Поскольку мать и отец вносят равный вклад в геном ребенка (по 50%), а вынашивает ребенка мать, разница корреляций будет свидетельствовать о наличии или отсутствии пренатальных влияний на фенотипический признак.
Психологи США, проводящие калифорнийский лонгитюд по изучению развития приемных детей, нашли популяцию женщин, которая не отличается по своим признакам от социальной и психологической нормы и может репрезентировать генеральную популяцию: это были молодые студентки католического вероисповедания, которые по религиозным мотивам не сделали аборт, но по каким-либо причинам не могли или не хотели оставить ребенка у себя. Католическая община заботится о таких женщинах, помогая им найти семью, готовую усыновить их ребенка. Отец ребенка был также известен, что способствовало исследованию.
В российских условиях практически нереально найти женщин, удовлетворяющих требованиям социальной и психологической нормы. Часто от детей отказываются женщины, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, с психологическими отклонениями, низким уровнем образования, живущие в плохих бытовых условиях. Установить отцовство чаще всего невозможно. В нашей стране тайна усыновления охраняется законом, и детям не сообщают о факте усыновления.
В США детям, как правило, говорят о том, что у них приемные, а не биологические родители. Поэтому именно там проведено большинство исследований с помощью метода приемных детей.
Метод близнецов. Рождение близнецов — эксперимент, поставленный самой природой. Близнецовый метод предложен Ф. Гальтоном в 1924 г. Он же разработал и схему интерпретации данных близнецовых исследований. В психогенетике этот метод наиболее популярен.
Близнецы представляют собой идеальный объект для психогенетического исследования.
Различают монозиготных (MZ) и дизиготных (DZ) близнецов. Дизиготные близнецы, или двойняшки, рождаются, если в период овуляции у матери созрели и были одновременно оплодотворены две или более яйцеклетки. Если женщина в этот период имела контакт с несколькими мужчинами, дети могут быть от разных отцов. В генетическом отношении дизиготные близнецы ничем не отличаются от родных братьев и сестер.
Монозиготные близнецы происходят из одной и той же зиготы (оплодотворенной яйцеклетки), которая разделилась на два самостоятельных организма. Они обладают 100% одинаковым набором генов. Дизиготных близнецов рождается в два раза больше, чем монозиготных. Частота рождения колеблется в зависимости от социальной роли родителей, этноса, места проживания. В России и в Европе рождается 30-40 монозиготных близнецов на 10 тыс. рождений. Поскольку рождение близнецов не такое уж редкое явление, у психогенетиков всегда достаточно испытуемых для проведения близнецовых исследований: в мире сегодня проживает 60 млн. близнецов.
Сходство между парами близнецов определяется генотипом и общей средой. Общая среда одинакова для монозиготных и дизиготных близнецов, а генотипы различны генотипы MZ близнецов сходны на 100%, a DZ — на 50%. Сравнивая внутрипарные корреляции MZ и DZ близнецов, можно выделить доли влияния среды генотипа и среды на развитие того или иного признака.
Главная проблема применения близнецового метода: формирование выборки и отбор MZ и DZ близнецов. Необходимо иметь методику, позволяющую по фенотипическим показателям отделить дизиготных близнецов от монозиготных. В 1924 г. Г. Сименс [Siemens H., 1927] предложил метод оценки зиготности, позволяющий на основе множества параметров (полисимптоматический метод) оценить внутрипар-ное сходство близнецов и отнести их либо к монозиготным, либо к дизиготным.
Близнецовый метод основывается на двух основных допущениях:
1) среда развития как в DZ, так и MZ парах одинакова для каждого близнеца;
2) между близнецами и одиночнорожденными нет систематических различий.
Нарушение первого условия влияет на внутреннюю валидность, так как различия влияний среды (например, разное эмоциональное отношение родителей к каждому из близнецов) могут повлиять на сцепку вкладов средового и генетического факторов.
Второе условие определяет внешнюю валидность. Если оно нарушается, выводы, полученные на близнецах, нельзя переносить на популяцию в целом.
План близнецового исследования представляет собой вариант двухфакторного плана: 1) наследственность — фактор, имеющий 2 градации (100 % сходство у MZ близнецов и 50 % — у DZ близнецов) и 2) среда (группы уравнены по этому фактору). Если корреляция MZ надежно выше корреляции DZ близнецов, то можно говорить о наличии некоторой доли генетической детерминации признака, в противном случае речь может вестись лишь о средовой детерминации.
Какие основные источники смешения влияния переменных в генетических исследованиях?
Во-первых, среда, в которой воспитываются MZ близнецы, более однородна для них, нежели для DZ близнецов. У монозиготных близнецов чаще наблюдается распределение ролей по принципу «доминирование—подчинение», чем у дизиготных. Специфическая ситуация воспитания, которая возникает в семьях, где родители близнецов также влияют на их развитие. Исследование показали, что родители по-разному относятся к монозиготным и дизиготным близнецам: похожее обращение родителей с монозиготными близнецами есть следствие монозиготности детей. Кроме того, родители дизиготных близнецов склонны акцентировать их несходство, что ведет к увеличению их различий. Тем самым данные психогенетических исследований должны иметь систематическую ошибку — сдвиг в сторону большей доли генетической составляющей по сравнению с «системным» ее значением. Однако эти сдвиги не настолько велики, чтобы признать метод внутренне невалидным.
Существует несколько разновидностей близнецового метода. К числу наиболее распространенных и основных относятся:
1) классический близнецовый метод;
2) метод разлученных близнецов;
3) метод близнецовых семей.
К вспомогательным относятся следующие модификации:
4) сопоставление близнецов с неблизнецами;
5) исследование одиночных близнецов;
6) исследование близнецов как пары.
Классический близнецовый метод, как уже было сказано ранее, предусматривает сопоставление моно- и дизиготных близнецов. Можно выделить структурный вариант близнецового метода, при котором выявляется отношение вкладов наследственности и среды в детерминацию поведенческих особенностей путем однократного сравнения внутрипарных корреляции MZ и DZ близнецов, а также лонгитюдный вариант, в ходе которого длительно изучаются одни и те же близнецовые пары.
В последнем случае можно установить закономерности изменения вкладов сре-довой и генетической детерминации индивидуально-психологических различий в ходе онтогенеза.
Метод контрольного близнеца используется для изучения влияния средовых детерминант на определенный психологический признак.
Он применяется только для MZ близнецов, которые генетически идентичны на 100%.
Первый близнец пары включается в экспериментальную группу, второй — в контрольную. Экспериментальная группа подвергается тренировочному или обучающему воздействию, а контрольная — не подвергается. Обычно этот метод используется для оценки эффективности разных обучающих программ (чтение, письмо и пр.).
Метод разлученных близнецов является самым жестким методом. Он похож на метод приемных детей.
Исследуются MZ и DZ близнецы, разлученные в раннем детстве и никогда не встречавшиеся друг с другом. Сходство разлученных MZ близнецов обуславливается только их генотипом, а различия — влиянием среды.
Случаев разлучения близнецов очень немного, все они связаны с катастрофами семьи. Поэтому научные работы, выполненные на основе этого метода, очень немногочисленны, а размеры выборки невелики. Невозможно контролировать влияние фактора времени разлучения близнецов: оно очень варьируется. Поэтому трудно учесть влияние предшествующей совместной жизни на их развитие.
Многие исследователи считают этот метод недостаточно валидным. Часто применяется более мягкая модификация этого приема — метод частично разлученных близнецов: изучаются близнецы, которые уезжают друг от друга и редко общаются. Предполагается, что длительность изоляции их друг от друга является фактором средового воздействия. Если различия близнецов увеличиваются со временем, то это свидетельствует о влиянии среды на этот признак.
Метод близнецовых семей является сочетанием семейного и близнецового исследований. Этот метод используется при исследовании наследственности психических заболеваний. Изучаются члены семей взрослых близнецов. Дети монозиготных близнецов по геному являются полусибсами (как дети одного и того же отца или матери от разных браков). С помощью этого метода можно выявить «материнский» или «отцовский» эффекты — относительную силу влияния наследования признака по материнской и отцовской линии. Вспомогательные модификации близнецового метода используются для контроля валидности.
Исследование одиночных близнецов проводится путем сравнения одиночнорож-денных детей и детей, рожденных при многоплодных родах, когда один из близнецов умирал при рождении. Этот метод используется для выявления влияния пренаталь-ного развития на их онтогенез.
Сопоставление близнецов с неблизнецами позволяет оценить внешнюю валидность классического близнецового метода. У близнецов выше риск умственной отсталости и других аномалий развития, среднее значение IQ (по данным Р. Заззо. [Zazzo R., 1978]) на 7 баллов ниже, чем в среднем по корреляции (снижение баллов по вербальным способностям). Снижение IQ обусловлено особенностями воспитания близнецов как пары: каждому достается меньше внимания родителей, чем оди-ночнорожденному ребенку. Кроме того, в паре близнецов наблюдается явление «замкнутости» их друг на друга, которая ведет к отставанию в развитии.
Метод близнецовой пары призван вскрыть психологические особенности «близнецовой ситуации» и выявить детерминанты «эффекта близнецовости». Этот метод также используется в качестве дополнения к классическому близнецовому исследованию: с помощью него контролируется влияние различия средовых условий партнеров MZ и DZ пар (внешняя валидность). Наиболее полное исследование близнецовых пар провел Р. Заззо, французский психолог [Zazzo R., 1960].
Кроме того, этот метод используется и для контроля внутренней валидности: выявляется сходство среды развития близнецов со средой, в которой развиваются обычные сибсы (братья и сестры).
Совокупность психогенетических методов позволяет решать широкий спектр как общепсихологических, так и дифференциально-психологических научных задач.
Эмпирические психогенетические методы неотделимы от статистических методов психогенетики и теоретических структурных модулей, которые хорошо представлены в монографиях и учебниках.
Современная психогенетика и кросскультурная психология образуют оппозиционную и дополнительную пару методов, позволяющих выявлять индивидуально-психологические особенности и детерминанты психического развития личности.
Вопросы
1. Какие источники артефактов позволяет контролировать план Coлoмoнa?
2. Чем квазиэксперимент отличается от эксперимента?
3. В чем состоит преимущество планирования по методу «латинского квадрата» по сравнению с использованием полного факторного плана?
4. В каких случаях прибегают к схемам ypaвнивaния?
5. Каковы особенности многомерного эксперимента?
6. В чем различие конвергентного и дивергентного подходов при планировании кросскультурных исследований?
7. Какие способы контроля внешней и внутренней валидности применяются в психогенетическом исследовании?
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Содержание. Основания теории измерений, классическая теория психологических измерении. Типы шкал и виды допустимых преобразовании. Виды шкальных преобразований. Психологическое тестирование, обобщенная модель теста. Основные виды психологических измерений, их классификация, классическая статистическая теория теста. Измерительные качества теста и их оценка. Стохастическая теория тестов (теория выбора ответа) и ее модификации: модели Лазарсфельда, Раша, Бирнбаума. Оценка трудности заданий и градуировка теста.
Основные понятия.Измерение, шкалы, числовая система с отношениями, эмпирическая система с отношениями, отображение, порядок, номинация, метрика, свойство, шкалограмма, тест, валидность, надежность, гомогенность, прогностичность, тестовые нормы, латентно-структурный анализ, латентная переменная, логит, трудность задания, дискриминантность задания. 6.1. Элементы теории психологических измерений
Измерение может быть самостоятельным исследовательским методом, но может выступать и как компонент целостной процедуры эксперимента.
Как самостоятельный метод, измерение служит для выявления индивидуальных различий поведения субъекта и отражения им окружающего мира, а также для исследования адекватности отражения (традиционная задача психофизики) и структуры индивидуального опыта.
Измерение включается в контекст эксперимента как метод регистрации состояния объекта исследования и соответственно изменения этого состояния в ответ на экспериментальное воздействие.
Исследования, проводимые по плану временных проб, зачастую сводятся лишь к измерениям особенностей поведения испытуемых через различные промежутки времени. Время в этом случае понимается как единственная переменная, воздействующая на объект.
На основе теории измерения строятся психологические тесты. Тест — сокращенная по времени и упрощенная процедура психологического измерения, применяемая для решения практических (иногда исследовательских) задач.
В чем заключается суть психологического измерения?
В психологии различают три основные процедуры психологического измерения. Основанием для различения является объект измерения. Во-первых, психолог может измерять особенности поведения людей для того, чтобы определить, чем один человек отличается от другого с точки зрения выраженности тех или иных свойств, наличия того или иного психического состояния или для отнесения его к определенному типу личности. Психолог, измеряя особенности поведения, определяет сходства или различия людей. Психологическое измерение становится измерением испытуемых.
Во-вторых, исследователь может использовать измерение как задачу испытуемого, в ходе выполнения которой последний измеряет (классифицирует, ранжирует, оценивает и т.п.) внешние объекты: других людей, стимулы или предметы внешнего мира, собственные состояния. Часто эта процедура оказывается измерением стимулов. Понятие «стимул» используется в широком смысле, а не в узкопсихофизическом или поведенческом. Под стимулом понимается любой шкалируемый объект.
В-третьих, существует процедура так называемого совместного измерения (или совместного шкалирования) стимулов и людей. При этом предполагается, что «стимулы» и «испытуемые» могут быть расположены на одной оси. Поведение испытуемого рассматривается как проявление взаимодействия личности и ситуации. Подобная процедура применяется при тестировании знаний и задач по Кумбсу, Гуттману или Рашу.
Внешне процедура психологического измерения ничем не отличается от процедуры психологического эксперимента. Более того, в психологической исследовательской практике понятия «измерение» и «эксперимент» часто используются как синонимы. Однако при проведении психологического эксперимента нас интересуют причинные связи между переменными, а результатом психологического измерения является всего лишь отнесение испытуемого либо оцениваемого им объекта к тому или иному классу, точке шкалы или пространству признаков.
В строгом смысле слова психологическим измерением можно назвать лишь измерение поведения испытуемых, т. е. измерение в первом значении этого понятия.
Психологическое измерение стимулов является задачей, которую выполняет не экспериментатор, а испытуемый в ходе обычного психологического (точнее — психофизического) эксперимента. В этом случае измерение используется только как методический прием наряду с другими методами психологического исследования; испытуемый же «играет роль» измерительного прибора. Поскольку результаты такого рода «измерений» интерпретируются на основе той же модели измерений, а обрабатываются с применением тех же математических процедур, что и результаты измерения поведения испытуемых, в психологии принято употреблять понятие «психологическое измерение» в двух различных смыслах.
Процедура психологического измерения состоит из ряда этапов, аналогичных этапам экспериментального исследования.
Основой психологических измерений является математическая теория измерений — раздел психологии, интенсивно развивающийся параллельно и в тесном взаимодействии с развитием процедур психологического измерения. Сегодня это — крупнейший раздел математической психологии.
С математической точки зрения, измерением называется операция установления взаимно однозначного соответствия множества объектов и символов (как частный случай — чисел). Символы (числа) приписываются вещам по определенным правилам.
Правила, на основании которых числа приписываются объектам, определяют шкалу измерения.
Измерительная шкала— основное понятие, введенное в психологию в 1950г. С. С. Стивенсом (Экспериментальная психология/Под ред. С.С. Стивенса. М., 1963); его трактовка шкалы и сегодня используется в научной литературе.
Итак, приписывание чисел объектам создает шкалу. Создание шкалы возможно, поскольку существует изоморфизм формальных систем и систем действий, производимых над реальными объектами.
Числовая система является множеством элементов с реализованными на нем отношениями и служит моделью для множества измеряемых объектов.
Различают несколько типов таких систем и соответственно несколько типов шкал. Операции, а именно — способы измерения объектов, задают тип шкалы. Шкала в свою очередь характеризуется видом преобразований, которые могут быть отнесены к результатам измерения. Если не соблюдать это правило, то структура шкалы нарушится, а данные измерения нельзя будет осмысленно интерпретировать.
Тип шкалы однозначно определяет совокупность статистических методов, которые могут быть применены для обработки данных измерения.
Шкала (лат. scala — лестница) в буквальном значении есть измерительный инструмент.
П. Суппес и Дж. Зинес [Суппес П., Зинес Дж., 1967] дали классическое определение шкалы: «Пусть A — эмпирическая система с отношениями (ЭСО), R — полная числовая система с отношениями (ЧСО), f — функция, которая гомоморфно отображает А в подсистему R (если в области нет двух разных объектов с одинаковой мерой, что является отображением изоморфизма). Назовем шкалой упорядоченную тройку <А; R; f>».
Обычно в качестве числовой системы R выбирается система действительных чисел или ее подсистема. Множество А — это совокупность измеряемых объектов с системой отношений, определенной на этом множестве. Отображение f — правило приписывания каждому объекту определенного числа.
В настоящее время определение Суппеса и Зинеса уточнено. Во-первых, в определение шкалы вводится G — группа допустимых преобразований. Во-вторых, множество А понимается не только как числовая система, но и как любая формальная знаковая система, которая может быть поставлена в отношение гомоморфизма с эмпирической системой. Таким образом, шкала — это четверка <А; R; f; G>. Согласно современным представлениям, внутренней характеристикой шкалы выступает именно группа G, а f является лишь привязкой шкалы к конкретной ситуации измерения.
В настоящее время под измерением понимается конструирование любой функции, которая изоморфно отображает эмпирическую структуру в символическую структуру. Как уже отмечено выше, совсем не обязательно такой структурой должна быть числовая. Это может быть любая структура, с помощью которой можно измерить характеристики объектов, заменив их другими, более удобными в обращении (в том числе числами).
Подробнее математические основания теории психологических измерений изложены в монографии А. Д. Логвиненко «Измерения в психологии: математические основы» (1993).
Существуют следующие основные типы шкал: наименований, порядка, интервалов, отношений. Ряд специалистов выделяет также абсолютную шкалу и шкалу разностей.
Рассмотрим особенности каждого типа шкал.
Шкала наименований
Шкала наименований получается путем присвоения «имен» объектам. При этом нужно разделить множество объектов на непересекающиеся подмножества.
Иными словами, объекты сравниваются друг с другом и определяется их эквивалентность—неэквивалентность. В результате данной процедуры образуется совокупность классов эквивалентности. Объекты, принадлежащие к одному классу, эквивалентны друг другу и отличны от объектов, относящихся к другим классам. Эквивалентным объектам присваиваются одинаковые имена.
Операция сравнения является первичной для построения любой шкалы. Для построения такой шкалы нужно, чтобы объект был равен или подобен сам себе (х = х для всех значений х), т.е. на множестве объектов должно быть реализовано отношение рефлексивности. Для психологических объектов, например испытуемых или психических образов, это отношение реализуемо, если абстрагироваться от времени. Но поскольку операции попарного (в частности) сравнения множества всех объектов эмпирически реализуются неодновременно, то в ходе эмпирического измерения даже это простейшее условие не выполняется.
Следует запомнить: любая шкала есть идеализация, модель реальности, даже такая простейшая, как шкала наименований.
На объектах должно быть реализовано отношение симметрии R (X = Y) ®R (Y = X) и транзитивности R (X = Y, Y = Z) ® R (X = Z). Но на множестве результатов психологических экспериментов эти условия могут нарушаться.
Кроме того, многократное повторение эксперимента (накопление статистики) приводит к «перемешиванию» состава классов: в лучшем случае мы можем получить оценку, указывающую на вероятность принадлежности объекта к классу.
Таким образом, нет оснований говорить о шкале наименований (номинативной шкале, или шкале строгой классификации) как о простейшей шкале, начальном уровне измерения в психологии.
Рекомендуемые страницы:
§
В психологии используется множество конкретных измерительных методик. Удобную классификацию психологических измерений предложил С. С. Паповян [Паповян С. С., 1983]. Будем придерживаться ее в дальнейшем изложении.
Методы психологических измерений могут быть классифицированы по различным основаниям:
1) процедуре сбора «сырых» данных;
2) предмету измерения;
3) виду используемой шкалы;
4) типу шкалируемого материала;
5) моделям шкалирования;
6) числу «мерностей» (одномерные и многомерные);
7) мощности метода сбора данных (мощные или слабые);
8) типу ответа индивида;
9) какими они являются: детерминистскими или вероятностными.
Для психолога-экспериментатора главными основаниями являются процедура сбора данных и предмет измерения.
Чаще всего применяются следующие процедуры субъективного шкалирования:
Метод ранжирования. Все объекты представляются испытуемому одновременно, он должен их упорядочить по величине измеряемого признака.
Метод парных сравнений. Объекты предъявляются испытуемому попарно (число предъявлении равно числу сочетаний (п)). Испытуемый оценивает сходства— различия между членами пар.
Метод абсолютной оценки. Стимулы предъявляются по одному. Испытуемый дает оценку стимула в единицах предложенной шкалы.
Метод выбора. Индивиду предлагается несколько объектов (стимулов, высказываний и т.д.), из которых он должен выбрать те, которые соответствуют заданному критерию.
По предмету измерения все методики делятся на: а) методики шкалирования объектов, б) методики шкалирования индивидов и в) методики совместного шкалирования объектов и индивидов.
Методики шкалирования объектов (стимулов, высказываний и др.) выстраиваются в контекст экспериментальной или измерительной процедуры. По своей сути они не являются задачей исследователя, а представляют собой экспериментальную задачу испытуемого. Исследователь использует эту задачу для выявления поведения испытуемого (в данном случае — реакций, действий, вербальных оценок и др.), чтобы определить особенности его психики. Поэтому нет оснований причислять эти техники к методам психологического измерения поведения, если под измерением понимать только задачу экспериментатора.
При субъективном шкалировании испытуемый выполняет функции измерительного прибора, а экспериментатор мало интересуется особенностями «измеряемых» испытуемым объектов и исследует сам «измерительный прибор».
Парадигма субъективного шкалирования перешла в другие области психологии из психофизики, где классификация задач испытуемого в эксперименте очень хорошо разработана. Этого нельзя сказать об остальных областях психологии.
Но по укоренившейся традиции методики и модели субъективного шкалирования рассматриваются в одном разделе с техниками и моделями измерения поведения. Традиция эта связана с тем, что и при «шкалировании объектов», и при «шкалировании индивидов» в процессе обработки и интерпретации данных используется сходный математический аппарат.
Процедуре одномерного и многомерного субъективного шкалирования посвящена обширная научная и учебная литература (см. Библиографию).
Остановимся на моделях совместного шкалирования объектов и испытуемых. Модели делятся на два вида детерминистические и вероятностные. Суть этих моделей в том, что и объекты, и индивиды, которые высказывают суждения об объектах, «отображаются» на одну шкалу на основании обработки данных поведенческого измерения либо субъективного шкалирования.
Основными детерминистическими моделями являются метод развертывания К. Кумбса [Coombs С. Н., 1964] и шкалограммный анализ Л. Гутмана [Guttman L., 1944]. К вероятностным моделям относится латентно-структурный анализ IRT(item response theory) (см. разд. 6.5). Здесь же мы кратко остановимся на детерминистических моделях.
Метод развертывания Кумбса исходит из предположения, что объекты и индивиды могут быть размещены на шкале одномерного признака. Индивид может предпочитать один объект другому. Существует «идеальная точка» индивида — субъективный эталон. Индивид предпочитает тот стимул, который «ближе» к субъективному эталону.

Процедура измерения состоит в следующем. Испытуемому предъявляются пары стимулов, которые он сравнивает. Формируется матрица частоты предпочтений стимулов размером т х п (т — стимулы, п — индивиды). В клеточках матрицы — относительные частоты предпочтений.
Шкалограммный анализ Гутмана используется для построения опросников. Наиболее часто он применяется при дихотомической оценке ответа испытуемого («да» — «нет», «решил» —«не решил»).
Предполагается следующее: принятие индивидом пункта (решение задачи, ответ «да» и т.д.) означает то, что его шкальное значение не меньше величины пункта. Если индивид решает данную задачу, то он решает любую другую (более легкую) задачу. Принятие индивидом пункта опросника или правильное решение задачи обозначается как «1», непринятие пункта или неверное решение — «0».
В ходе обработки строки и столбцы исходной матрицы данных переставляются так, чтобы она соответствовала «совершенной» шкалограмме: матрица выше диагонали, т.е. верхняя правая часть матрицы, должна состоять из единиц, а нижняя левая — включать только нули. Порядок индивидов по строкам должен соответствовать порядку заданий по столбцам по величине выраженности свойства.
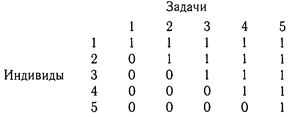
Практически никогда идеальная шкалограмма не получается. Оценка одномерности признака предложена Гутманом и называется коэффициентом воспроизводимости.
R = 1 – e/nk,
где е — число «ошибок» в откликах испытуемых, п — количество испытуемых, k — число заданий.
Существует также модификация модели Гутмана, описывающая процедуру с несколькими вариантами ответов.
Рекомендуемые страницы:
§
Автор сознательно не включил главу с изложением методов математико-статистической обработки данных. Во-первых, существует обширная учебная литература, справочники и монографии, где эти вопросы изложены профессионально и подробно. Во-вторых, студенты-психологи изучают отдельный курс «Математические методы в психологии», а попрактиковаться в их применении они могут, обрабатывая результаты лабораторных исследовании на практикуме по общей психологии. Поэтому содержание этой главы начинается с того момента, когда данные исследования уже обработаны и представлены в той или иной форме. Кроме того, применение статистических критериев уже позволило сделать вывод о принятии или отвержении статистической гипотезы H1 или Н0.
Предположим, что статистическая гипотеза о различии результатов экспериментальной и контрольной групп принята. Какие выводы мы можем сделать после обработки экспериментальных результатов? Итог любого исследования — преобразование «сырых» данных в решение об обнаружении явления (различий в поведении двух и более групп), о статистической связи или причинной зависимости. Подтверждение или опровержение статистической гипотезы о значимости обнаруженных сходств — различий, связей и должно быть интерпретировано как подтверждение (неопровержение) или опровержение экспериментальной гипотезы. Как правило, исследователь пытается подтвердить гипотезы о различиях поведения контрольной и экспериментальной групп. Нуль-гипотеза — гипотеза о тождестве групп.
При статистическом выводе возможны различные варианты решений. Исследователь может принять или отвергнуть статистическую нуль-гипотезу, но она может быть объективно («на самом деле») верной или ложной. Соответственно возможны четыре исхода: 1) принятие верной нуль-гипотезы; 2) отвержение ложной нуль-гипотезы; 3) принятие ложной нуль-гипотезы; 4) отвержение верной нуль-гипотезы. Два варианта решения правильны, два — ошибочны. Ошибочные варианты называются ошибками 1-го и 2-го рода.
Ошибку 1-го рода исследователь совершает, если отвергает истинную нуль-гипотезу. Ошибка 2-го рода состоит в принятии ложной нуль-гипотезы (и отвержении верной исследовательской гипотезы о различиях) (см. табл. 7.1).
Чем больше число испытуемых и опытов, чем выше статистическая достоверность вывода (принятый уровень значимости), тем меньше вероятность совершения ошибок 1-го рода. Например, если при а = 0,1 слабые различия между средними, определенные с помощью t-критерия, могут быть значимыми, то при а = 0,05 и а = 0,001 значимых различий мы можем не получить.
Ошибка 1-го рода особо значима в уточняющем (конфирматорном) эксперименте, а также в тех случаях, когда принятие неверной гипотезы о различиях имеет практическую значимость. Допустим, принятие ложной гипотезы об интеллектуальных различиях представителей разных социальных страт или этнических групп имеет чрезвычайно значимые социально-политические следствия.
Ошибки 2-го рода — отвержение верной исследовательской гипотезы и принятие нуль-гипотезы — особенно существенна при проведении пробного (эксплораторного) эксперимента. Отклонение исследовательской гипотезы на начальной стадии может надолго закрыть дорогу исследователям в данной предметной области. Поэтому уровень статистической достоверности при проведении эксплораторного эксперимента на малых выборках стремятся понизить, т.е. выбирают а = 0,1 или а = 0,05. Исследователю, разумеется, приятнее получить подтверждение своим собственным мыслям, поэтому субъективная значимость ошибок 2-го рода значительно ниже, чем субъективная значимость ошибок 1-го рода.
Но для науки как сферы человеческой деятельности важнее получить максимально достоверное знание, а не «засорять» научные журналы невалидными и ненадежными результатами. Поэтому стратегия исследований в любой области психологической науки такова: переход от эксплораторного (поискового) эксперимента к кон-фирматорному (уточняющему), от низких уровней достоверности — к высоким, от исследований на малых выборках — к исследованиям на больших.

В конкретных же исследованиях значимость ошибок 1-го и 2-го рода может сильно зависеть от целей, которые преследуются в эксперименте, от предмета изучения и характера решаемой исследовательской задачи и т.д. В обыденной и профессиональной жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда нам надо оценить сравнительную значимость ошибок 1-го и 2-го рода. Например, судья или присяжные, определяя виновность или невиновность подсудимого, должны для себя решить, что более значимо: признать невиновного виновным или виновного невиновным. Установка на «гуманность» диктует правило: пусть будут оправданы десять преступников, чем пострадает один невиновный. «Репрессивная» установка предполагает другое правило: пусть пострадают десять невиновных, лишь бы один виновный не ушел от наказания.
Принятие или отвержение статистической гипотезы не является единственным условием принятия или не принятия экспериментальной гипотезы. Если статистическая гипотеза отвергнута, то исследователь может это реализовать по-разному. Он может завершить эксперимент и предпринять попытку выдвижения новых гипотез. Экспериментатор может провести новое исследование на расширенной выборке с использованием модифицированного экспериментального плана и т.д. «Отрицательный» результат, как говорят опытные экспериментаторы, тоже результат.
С позиций критического рационализма «отрицательные» выводы, отвергающие экспериментальную гипотезу, — это главный результат любого эксперимента, так как сам эксперимент есть способ выбраковки нежизнеспособных гипотез. Отклонение экспериментальной гипотезы отнюдь не означает, что теорию, следствием которой она являлась, следует сразу отбросить. Возможно, неверно сформулирована теоретическая гипотеза: в прямой вывод из теории может вкрасться ошибка. Не исключено, что теоретическая гипотеза верна, но ее экспериментальная версия некорректно сформулирована. При этом зачастую даже подтверждение экспериментальной гипотезы не свидетельствует о подтверждении теории. Допустим, исходя из концепции фасилитации, мы предполагаем, что эмоциональная поддержка действий испытуемого будет приводить к более успешному решению задач. Но вместо превентивной эмоциональной поддержки любых проявлений интеллектуальной активности мы в эксперименте поощряли испытуемого за хорошую работу по окончании решения задания. Разумеется, эффект будет обнаружен, но никакого отношения к исходной теоретической гипотезе он не имеет.
Рассмотрение различных частных случаев подтверждения или неподтверждения конкретных экспериментальных гипотез — дело увлекательное и вполне доступное любому студенту, который усвоил азы психологического экспериментирования. Предположим, что экспериментальная гипотеза подтверждена или, следуя строгой логике К. Поппера, не опровергнута. Требуется решить проблему обобщения результатов эксперимента: на какие группы испытуемых могут быть распространены выводы, в каких внешних условиях будут воспроизводиться результаты, не будет ли влиять на результаты исследования смена экспериментатора?
В отличие от классического естествознания, экспериментальный результат в психологии должен быть инвариантен (неизменен) по отношению не только ко всем объектам данного типа, к пространственно-временным (и некоторым другим) условиям проведения эксперимента, но и к особенностям взаимодействия экспериментатора и испытуемого, а также к содержанию деятельности испытуемого.
1. Обобщение по отношению к объектам. Если мы провели эксперимент на 30 испытуемых — мужчинах в возрасте от 20 до 25 лет, принадлежащих к семьям из среднего класса, обучающихся на 2-3-м курсах университета, то, очевидно, нужно решить следующую проблему: на какую популяцию распространить результаты? Предельным обобщением будет отнесение выводов ко всем представителям вида Homo sapiens. Обычно исследователи заканчивают первую экспериментальную часть своей работы предельно широким обобщением. Дальнейшая исследовательская практика сводится не только к уточнению, но и к сужению диапазона применимости найденных закономерностей.
Исследования Скиннера по оперантному обучению на крысах, голубях и др. дали результаты, которые автор распространил на представителей других видов, занимающих верхние ступени эволюционной лестницы, в том числе и на человека. Эксперименты И. П. Павлова по выработке классических условных рефлексов у собак позволили выявить закономерности высшей нервной деятельности, общие для всех высших животных. Феномены Ж. Пиаже воспроизводятся при исследовании групп детей во Франции, США, России, Израиле и т.д.
Ограничителями генерализации выступают внепсихологические характеристики популяции: 1) биологические и 2) социокультурные.
К основным биологическим характеристикам относятся пол, возраст, раса, конституциональные особенности, физическое здоровье. В дифференциально-психологическом исследовании выявляются изменения зависимости между двумя переменными, которые относятся к дополнительным признакам объекта изучения.
Социокультурные особенности являются вторым важнейшим ограничением обобщения результатов. Решается проблема возможности распространения данных на представителей других народов и культур в кросскультурных исследованиях. Аналогичная работа проводится по уточнению влияния на результаты эксперимента таких дополнительных переменных, как уровень образования и уровень доходов испытуемых, классовая принадлежность и т.д.
Бывает, что результаты эксперимента можно применить лишь к той популяции, представители которой вошли в состав экспериментальных групп. Но и в этом случае существует проблема: можно ли данные, полученные на экспериментальной выборке, распространить на всю популяцию? Решение этой проблемы зависит от того, насколько в ходе планирования исследования и формирования экспериментальной выборки соблюдалось требование репрезентативности.
Для проверки выводов, во-первых, проводят дополнительные эксперименты на группах представителей той же популяции, не вошедших в первоначальную выборку. Во-вторых, стремятся максимально увеличить в уточняющих экспериментах численность экспериментальной и контрольных групп.
2. Условия исследования. В психологическом эксперименте важны не столько пространственно-временные факторы (в отличие от физического), сколько условия деятельности испытуемого, а тем более — особенности заданий. В какой мере влияют на результат вариации инструкции, материала заданий, действий испытуемого, предусмотренных в ней, вид мотивации, присутствие или отсутствие «обратной связи»? На все эти вопросы нельзя ответить, ограничившись проведением одного эксперимента. Исследователь должен варьировать в последующих экспериментальных сериях дополнительные переменные, относящиеся к характеристикам экспериментального задания, чтобы установить, являются ли результаты инвариантными по отношению к задаче испытуемого.
Классическим примером влияния особенностей задачи, решаемой испытуемым, на результат эксперимента стали психофизические исследования абсолютных порогов чувствительности.
«Слепой метод» позволяет исключить влияние на результат знания испытуемого о том, когда и какое воздействие он получает.
3. Экспериментатор. Проблеме влияния экспериментатора на результаты исследования было уделено достаточно внимания в этой книге. Следует лишь напомнить, что психология, в отличие от других научных дисциплин, не может полностью исключить, «вынести за скобки» влияние личностных черт, мотивации, компетентности исследователя в ходе эксперимента.
«Двойной слепой опыт» позволяет контролировать влияние ожиданий экспериментатора на результаты исследования. Однако полный контроль воздействия индивидуальных особенностей экспериментатора предполагает применение факторного плана вида К х L х М, где в качестве дополнительной переменной выступают экспериментаторы, различающиеся по полу, национальной принадлежности, возрасту, индивидуально-психологическим особенностям и т.д.
Инвариантность результатов по отношению к личности экспериментатора особенно часто нарушается в социально-психологических и дифференциально-психологических исследованиях.
Вариация результатов исследования, определяемая влиянием экспериментатора, описана в большинстве практических руководств по проведению психологического эксперимента.
Подведем итог. Исследователь может совершить две ошибки относительно гипотезы: 1) принять неверную экспериментальную гипотезу и 2) отвергнуть верную экспериментальную гипотезу. В эксплораторном (поисковом) эксперименте опаснее ошибка 2-го рода. В конфирматорном (уточняющем) эксперименте большее значение имеет ошибка 1 -го рода. Увеличение объема выборки и статистической достоверности вывода способствует минимизации ошибки 1-го рода.
Исследователя подстерегает опасность неправомерного обобщения результатов исследования. Ограничителями генерализации результатов выступают: 1) особенности выборки; 2) содержание эксперимента (задания испытуемому, воздействия, среда); 3) личность экспериментатора.
Возможны две стратегии проведения дополнительных исследований: 1) ограничение генерализации путем введения дополнительных переменных в план эксперимента; 2) индуктивный путь на основе перепроверки результатов на других рандомизированных экспериментальных выборках.
Процедура эксперимента никогда не может дать абсолютно достоверного знания, так как индукция принципиально неполна. Эксперимент — это лучший способ критики и отбора идей, но не лучший способ порождения нового знания.
Рекомендуемые страницы:






